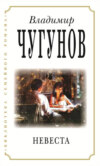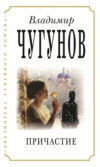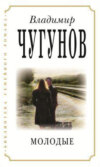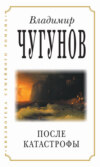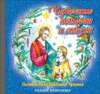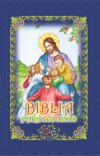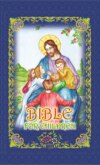Kitabı oku: «Запущенный сад (сборник)», sayfa 5
7
Хорошо помню тот день, когда Саня Никитин, стоя в проёме настежь открытого окна и потряхивая в руке подкинутым нашему новому, четвёртому по счёту, классному руководителю сорвавшим урок анонимным письмом, кричал:
– Последний раз спрашиваю – кто написал?
Его тёмные кудри трепал лёгкий сентябрьский ветерок, голову нимбообразно обрамляло зависшее над крышами одноэтажных домов посёлка вечернее солнце. Урок был сорван в самом начале, когда Янина Александровна, вчерашняя студентка исторического факультета, стройная, подтянутая, быстрой походкой войдя в класс, обратила внимание на свёрнутый вдвое тетрадный лист, на котором крупными печатными буквами было выведено её имя и отчество. «Мне?» Она окинула удивлённым взглядом притихший класс – и класс ответил ей тем же. И тогда, развернув листок, она стала читать. И по мере того, как читала, лицо её каменело.
– Нет, я, конечно, за откровенность, – совершенно неузнаваемым голосом, наконец, выдавила она, – но чтобы вот так…
И, положив анонимку на стол, демонстративно вышла из класса. Выбежавшая следом Кеша вернулась с известием, что «Янина плачет». Класс загудел. Со всех сторон полетели упрёки и угрозы автору анонимки.
– Уважаемая! – возвысил голос Ткачёв и его усыпанное веснушками щекастое лицо, как и подобает «индивидууму», приняло надменное выражение (моё за компанию – тоже). – Человечество желает ознакомиться с содержанием возмутившего их обывательский покой послания.
«Человечество» хотя и выразило незамедлительное согласие, однако же кое-кто и огрызнулся: «Единоличники! Ставят из себя! Идиотизм какой-то!» Простому смертному это могло бы показаться оскорбительным, индивидууму же – никогда, а потому, даже не поведя бровью, вальяжно отвалившись назад и выставив из-под парты ботинки, с оббитыми носами, Ткачёв заявил:
– Уважаемая, человечество уполномочивает вашу светлость огласить содержание.
– Я?
– Увы, но человечество вам доверяет.
По оглашении анонимки, возмущение достигло апогея. Все требовали сочинителя, «если только не трус», сейчас же выйти к позорному столбу, то есть к доске, а поскольку никто не выходил, Саня, как самоназначенный председатель следственной комиссии, состоявшей из него одного, вынужден был пойти на крайние меры.
– Ну? – с вызовом повторил он и высунулся в окно.
Класс замер.
Но никто так и не сознался.
И в доказательство того, что не шутит, Саня прыгнул со второго этажа. Мы сразу облепили окно: Саня лежал на боку, обняв руками поджатые под себя ноги, и, задрав вверх голову, стонал от боли. Трое ребят сыпанули на улицу, кто-то из девчат хотел бежать в медпункт, но их вовремя остановили – не хватало нам ещё этого скандала, и так мы считались трудным классом.
Содержание написанного печатными буквами письма было следующим:
«Уважаемая Янина Александровна. Ваши жалкие попытки втиснуться в наше доверие, ничего кроме жалости и снисхождения к вашей ординарной личности у подавляющего большинства не вызывают, зря стараетесь».
Кто до этого додумался, так и осталось тайной, хотя многие подозревали именно нас, индивидуумов. И это понятно. Наше ироничное отношение ко всему «святому», да ещё так откровенно выпячиваемое наружу, не только удив ляло, но и бесило.
И все-таки до анонимки додумались не мы, во всяком случае, не я. И вместе со всеми ходил к Янине на покаяние.
«Яни-ина Александровна, прости-ите нас, пожалуйста. Ну, пожа-алуйста…»
Уж эти юные сердца! Всего-то и стоило Янине разок всплакнуть, чтобы покорить нас навеки. И когда выяснилось, что «классная» беременна, и скоро уйдёт в декретный отпуск, нашему горю не было предела. Пару раз мы даже навещали её в городской квартире. Первый раз она всего лишь вышла к нам на лестничную площадку, поддерживая руками уродливо, по-муравьиному торчавший на её худенькой фигуре живот. Девчата шептались по этому поводу: «У Янины муж – у-у-у…» Второй раз я не поехал, а те, что ездили, представили фотографию, на которой с ребёнком на руках, в окружении десяти преданных учеников, растрёпанная, совершенно не похожая на прежнюю стройную, классную даму сидела наша Янина.
Опять же о прозвищах. По-моему, только труды вёл Колбасник, оттого что всё время питался варёной колбасой, остальных учителей звали либо по фамилии, либо по имени отчеству, либо по названию предмета, который преподавали – физичка, химичка, географичка, математик… Скабрезными прозвищами, которые, разумеется, были, как правило, пользовались только хамы.
8
И всё же самые волнующие события происходили на школьных вечерах. Их почтительно называли балами, и кроме танцев под первый вокально-инструментальный ансамбль, на них ставили сценки, читали душещипательные стихи (в основном Асадова), играли в ручеёк, разыгрывали интеллектуальную лотерею, носили почту – любовные анонимки или подковырки.
Поскольку на взрослые танцы, которые зимой устраивали в местном клубе, а летом на танцплощадке в парке, нас ещё не пускали, первые шаги на танцевальном поприще мы делали на школьных вечерах.
Девушки обычно располагались по правой стене спортзала, мальчики – по левой. Напротив входа, между дверями в раздевалки – ансамбль: две гитары (ритм, бас), труба и ударник без большого барабана. Двое из музыкантов наши одноклассники-второгодники. Все девушки в них безнадёжно влюблены.
Слышу счёт палочек. Созерцаю притихший зал. Исполняют (без пения) «ес ту дэй». Петь по-английски в нашей французской школе ещё стеснялись, да и не умели, и вообще, более или менее сносно не скоро научатся петь. Но мы и такой, пусть хоть и примитивной, но всё же самой современной, в сравнении с баяном или аккордеоном, музыке несказанно рады. А как она волнует!
Из наших песен поют:
Перчатки снимешь прямо у дверей,
Небрежно бросишь их на подоконник.
«Я так озябла! – скажешь. – Обогрей!»
Ко мне протянешь зябкие ладони.
Или:
У твоего подъезда снегопад,
Ты вся в снегу, боишься простудиться,
А я боюсь случайно ошибиться,
Мне хорошо четвёртый день подряд.
Вот именно – ошибиться! А ну как пригласишь не ту, и вся жизнь – насмарку. Ведь уже до этих вечеров я был бесповоротно влюблён в девочку в пионерском лагере, потом в одноклассницу брата, у которой с таким трудом и клятвами выпросил адрес, но так и не написал, в одноклассницу с улицы Весенней, в молдаванок, а тут перед глазами две шеренги девчат из двух десятых, своего девятого и параллельного «бэ» класса. Положим, десятиклассницы все, как одна, тогда казались безнадёжными старухами, но девчата из параллельного класса… О-о!.. А в десятом! Какое удовольствие доставляло смущать одною только развязной походкой таких ещё робких, таких ещё пугливых девятиклассниц! Но это, опять же, в десятом, после усиленных спортивных занятий и полётов во сне, а тогда со мной, коротышкой, никто даже и танцевать не хотел. Нет, положим, какая-нибудь самая несимпатичная и пошла бы, да разве можно, пригласив такую, ошибиться навек? А потому танцевали в основном девушки с девушками, а мы делали вид, что на них внимания не обращаем, по всякому поводу и без повода хватаясь за животы – «ну, умора». Ну, а девушки… А девушки делали вид, что им очень нравится танцевать друг с дружкой, порою даже не позволяя себя разбивать. Мы, помнится, так и говорили: «Пойдём, разобьём вон тех», заранее определяясь, кто с кем танцевать будет. Всё же не так стыдно, когда в одиночку подходишь, а тебе отказывают. А бывало, пригласишь, тебе откажут и ты, не разбирая, идёшь вдоль шеренги, приглашая всех подряд, а тебе, как назло, все до одной отказывают. Уж это ущемлённое самолюбие! Переступить через него (на виду у всех получить серию отказов) не каждому было по зубам. Поэтому чаще всего не танцевали.
Нет, конечно, были и такие из парней, которые совершенно спокойно подходили и приглашали, но не больше, чем на один танец – чтобы избежать подозрений и… случайно не ошибиться. Если же танцевали всё время с одной – это уже была ничего, кроме зависти, не вызывающая, самая настоящая любовь. Танцевать с одной и той же означало ни больше, ни меньше, как потом на ней жениться. Для иных целей у нас тогда с одной и той же не танцевали. Танцуешь, значит, женись. Ещё и поэтому, наверное, я всё не мог выбрать себе будущую половину. И так до окончания девятого класса.
Начало последних каникул я провёл в трудовом лагере. Нас расселили по каютам второго этажа старой брандвахты. По вечерам мы собирались на верхней крытой палубе. Сидели на лавках и перилах и разговаривали о пустяках. Но после отбоя группами по двое, по трое прокрадывались в каюты девчат и до часу, а то и до двух ночи просиживали на кроватях своих избранниц. Если существуют мысленные поцелуи, таковые, конечно, были. Переступить же через эту мысленную черту у меня, во всяком случае, не хватало смелости. В воображении, правда, давно уже доходило и до поцелуев, а стало быть, и до официальных женитьб. Уж эти томительные минуты! На соседних кроватях обойдённые вниманием девчата делают вид, что спят, а на необойдённых мы никак не можем налюбоваться, они – на нас. Моя, как и все остальные, под одеялом, закрывшись до подбородка, жутким, как омут, взглядом влечёт меня к себе. Казалось бы, только наклониться и поцеловать, а стыд-подлец не допускает. И всякий раз, возвращаясь в каюту, я казню себя за эту нерешительность. Уверяю и даже даю себе слово, что в следующую же ночь обязательно «сотворю беззаконие», но, увы, всё до мельчайших подробностей повторяется вновь. И так до конца смены. Но и дома я не перестаю казнить себя за эту малодушную нерешительность. Преуспевшие в подобных делах ребята уверяют, что девчата не любят нерешительных, и что наглость – второе счастье, может быть – и счастье, может быть, только, видно, не для меня.
9
А в начале августа появилась она. Сашенька. Из Астрахани. Астраханочка, как сразу стали её называть. Да ещё двоюродная сестра одноклассницы.
И вот мы впятером (три девушки и два парня) гуляем по нашей единственной асфальтированной дороге, ведущей через дамбу к кладбищу, – парами ещё стесняемся ходить.
Но гораздо чаще собираемся на брёвнах у сараев. Говорим о фильмах, поэтах, справедливости, трусости, предательстве, героизме, и ни слова – о любви. Вернее больше всех говорит Сашенька. Она горой стоит за справедливость, честность, порядочность. Её невозможно переспорить или переубедить. Если она что-то решит, то это уже окончательно и бесповоротно. Она не терпит глупых шуток, пошлых анекдотов, двусмысленности в разговорах: либо – либо, и никак иначе. Её начитанность вызывает у всех уважение, которое она принимает как должное. Во всём и всегда – она зачинщик и командир. И даже я, не только заядлый спорщик, но и несознательный комсомолец, во многом ей подчиняюсь. Во многом, но не в главном. И с жаром говорю, что не понимаю, почему именно «должен» быть честным, принципиальным, непримиримым, верным, целеустремлённым и тому подобное, когда давным-давно никто ни во что не верит.
– А ты?
– Только – в себя!
И тогда начинается. И единоличник-то я, и ставлю из себя неизвестно что, и не хочу быть как все, и что не живётся мне спокойно, и даже «помяни моё слово, когда-нибудь тебя посадят».
Но я упрямо стою на своём. Сашенька во время спора молчит, хотя к ней постоянно обращаются за поддержкой, но – не безразлична, а словно что-то пытается и никак не может для себя уяснить.
И когда все расходятся, мы на малое время остаёмся вдвоём. Просто сидим и молчим. И молчание это не кажется томительным или неловким. В деревянном коттедже на четырёх хозяев, где живёт Сашенькина бабушка, давно потушен свет, но бабушка не спит и ровно в одиннадцать, выйдя на крыльцо, кликнет внучку домой. В сказочном очаровании тихой августовской ночи дремлют за штакетником обременённые плодами яблони.
Мы сидим на брёвнах и наблюдаем звездопад. Загадываем желания.
– Успел? – всякий раз спрашивает она.
– Да, – отвечаю я. Поскольку желание у меня одно, не успеть невозможно, о нём нетрудно догадаться, но я никогда и никому о нём не скажу.
Сашенька в светленьком платьице, натянутом на поднятые к подбородку колени, в накинутом на плечи моём куцем пиджачке. Я в коротеньких брючках, новые купят только к школе, а пока каждый вечер, прежде чем отправиться на свидание, с помощью марли и стирального порошка, я придаю им божеский вид. И, надо сказать, у меня это неплохо получается, но, вот досада, такими они за лето сделались короткими, что даже приспущенные на бёдра, чуть ли не до самого верха обнажают носки. Положим, сидеть на брёвнах – ещё куда ни шло, но подойти к честной компании даже при тусклом свете уличного фонаря было равносильно пытке. Скрашивала обстоятельство синяя нейлоновая рубашка. Во всей округе ни у кого такой не было, её не надо было гладить, она не линяла при стирке, а значит, никогда не теряла праздничный вид. Правда, немного холодила по вечерам, но это же такая мелочь для влюблённого человека.
Ни о каких чувствах меж нами не произносится ни слова, даже случайного, и между тем мы оба прекрасно понимаем, что между нами что-то «есть». И это нечто, никогда не называемое, понятно не только нам, но и тем, кто каждый вечер позволяет нам побыть наедине. А если бы не было, разве стали мы, подобно двум истуканам, сидеть на брёвнах, на которых до нас никто и никогда не сидел? Что время – эфемерная величина, я знал и до этого. Знал, например, что оно может тянуться томительно и долго или лететь быстро и незаметно, но ещё не ведома была для меня тоска разлуки, помноженная на не преодолимое обстоятельствами расстояние. Если даже теперь я не знаю, как убить время до вечера, в какую муку превратится оно, будучи помноженным на триста тридцать четыре световых дня. Ночи я всё-таки предполагал спать, чтобы сохранить здоровье для будущего потомства. А будет у нас три мальчика и одна девочка. Три мальчика потому, что один сын – не сын, два сына – полсына, и только три сына – сын. Ну, а про девочек ничего такого не сказано. И потом, их и так по статистике десять на девять ребят.
– Ты действительно считаешь, что теперь никто ни во что не верит?
– Да.
– Для чего тогда жить?
– Да просто.
– Просто… Человек – не животное, он не может жить просто. Человек может жить только ради чего-то?
С этим нельзя не согласиться, но я всё равно не согласен. Говорю, что никакое «чего-то» не может быть дороже моей личной жизни уже потому, что она одна и больше никогда не повторится. Вот если я сам захочу её отдать – другое дело, но почему именно – «должен»?
– Тебе не хватает сознательности… Смотри, ещё одна упала!
– Не поэтому. Просто я никому ничего не должен… А вон – ещё!
Напряжённое молчание нарушает знакомый до последней нотки голос:
– Са-аша-а!
Мы слезаем со штабеля. Сашенька говорит:
– До завтра?.. И всё равно ты неправ.
– Может быть… На том же месте?
– Да… Я в этом почти уверена.
– И я… Спокойной ночи.
* * *
А в один из таких вечеров мы даже совершили подвиг.
Как-то дойдя до окончания дамбы, мы по обыкновению хотели повернуть назад, как вдруг услышали крик о помощи. Подойдя ближе, увидели две машины «такси», в которых шла борьба с одной стороны за обладание, а с другой за нежелание сделаться предметом этого несанкционированного обладания. Иными словами, два таксиста пытались всего лишь на один вечер жениться на тех, на которых даже под угрозой расстрела ни за что бы не согласились жениться. А это было неправильно. И мы решительно потребовали это вопиющее безобразие немедленно прекратить.
– А то вызовем милицию!
Не скрою, нам, мальчикам, было страшно. А ну как вылезут большие дяди, сдёрнут штанишки и нашлёпают по голой попе. Но при девочках мы изо всех сил стараемся казаться Александрами Матросовыми.
Но, к нашему удивлению, с нами даже спорить не стали – не выскочили, например, с монтажкой, не схватили за грудки, даже на три нехорошие буквы не послали, – а тотчас открыли двери и выпустили «кавказских пленниц» наружу. «Кавказских» – потому, что после одноимённого фильма только «кавказские» не хотели замуж без любви.
Когда же вывалились из салонов «такси» полупьяные, накрашенные до совершенной потери личности, с распущенными волосами этакие бабищи на каблуках, я с удивлением подумал: «Ничего себе!».
«Такси» тотчас развернулись и укатили, а мы целый километр сопровождали несчастных жертв до автобусной остановки. И всю дорогу несчастные жертвы строили из себя оскорблённых невинностей, а мы кристально чистых советских граждан. Ведь форменное же безобразие, ну! Наши девчата были особенно возмущены, а мой напарник, как и я, делающий на ухаживательном поприще первые шаги, шёл ехидненько улыбаясь в сторону, и этой улыбочкой как нельзя лучше было сказано всё – те, с которыми мы дружили, и те, которых якобы спасли, были для нас далеко не одно и то же.
10
Расставание наше было скорбным. И скорбью, казалось, было пронизано всё вокруг. Подобно выплаканным материнским глазам каждое утро смотрело сверху безликое холодное небо, а цеплявшаяся за кусты и мотавшаяся по ветру паутина почему-то напоминала оборванные телефонные провода. Дома не сиделось оттого, что бездушная кукушка каждые полчаса, с шестерёночным жужжанием распахивая дверцу резного скворечника, методично отсчитывала приближающееся время неумолимой разлуки. Казалась она такой горестной, такой неизбывной, что я даже потихоньку плакал в подушку.
Незадолго до Сашенькиного отъезда мы обменялись адресами. Но до самого последнего дня нашего скорбного прощания я даже и мысли не допускал, что отважусь хотя бы напоследок её поцеловать. Забыл сказать, что, несмотря на мои интенсивные полёты во сне, была Сашенька не только меня выше, но и казалась взрослее (старшая сестра с младшим братом), и я, прекрасно понимая это, старался не встречаться с ней среди бела дня. И весь световой день, пользуясь льготой последних каникул, отсутствием домашних обязанностей, после утренней зарядки, слонялся по нашему лесу. Горестные мои думы были об одном: ну вот что она во мне нашла? И то сомневался в искренности её чувств, то боготворил за несоответствующий её величия выбор. Действительно, было вокруг немало парней и повыше, и постарше, и решительнее, и уж, конечно, симпатичнее меня. Её двоюродная сестра, моя одноклассница, например, во время наших совместных прогулок совершенно открыто сходила с ума по Алену Делону (фильмы с его участием тогда были в ходу). Оказывается, был знаменитый француз не то метр восемьдесят шесть, не то метр девяносто ростом. Иными словами, куда мне до него, а поди ж ты, рискнула Сашенька так опрометчиво ошибиться. Значит, было же во мне что-то такое, чего не видел больше никто. Судя по фотографии – абсолютно ничегошеньки. Но воистину неисследимы глубины сердец девичьих!
Сказать, что это был самый печальный вечер, значит, не сказать ничего. Сначала мы сидели на брёвнах. И, пожалуй, это был единственный вечер, когда мы совершенно не обращали внимания на звездопад. Подперев коленями подбородок, Сашенька задумчиво смотрела перед собой, а я, искоса поглядывая на неё, исходил сладкой печалью, и разве что сознание мужского достоинства не позволяло мне заплакать.
– Год, это не так уж и много, правда? – спрашивала она.
– Конечно, – соглашался я.
И хотя мы оба прекрасно знали, что Сашенькин дед взял бабушку с ребёнком (её матерью) после того, как, вернувшись из плена, узнал, что законная жена, получив известие о «пропавшем без вести» муже, от кого-то понесла, мы даже и мысли не допускали, что наша любовь может не выдержать испытания временем.
– И давай сразу договоримся: что бы ни случилось, ничего друг от друга не скрывать.
Стало быть, она всё же допускала, что может что-то случиться. Но, опять же, с чьей стороны? Лично я в себе был абсолютно уверен. И когда, наконец, бабушка кликнула её домой, ненадоедливо повторяя одно и то же: «Ну всё, пошла», Сашенька ещё какое-то время трясла мою руку совершенно не идущим к месту, исключительно товарищеским рукопожатием.
Утром она уехала – и мир для меня превратился в пустыню. Я перестал заниматься спортом и целыми днями привидением слонялся по начавшему желтеть лесу. Как такового леса было не так уж много, и довольно часто он прерывался просторами сжатых полей. Когда-то мы ходили сюда кататься на соломе. Заберёшься на высоченный стог, подберёшь под себя охапку соломы, и вихрем мчишься вниз, как с зимней горки. Иногда за этим занятием нас заставали объезчики, и мы едва успевали скрыться от погони в лесу. Теперь за мною никто не гнался, но у меня было такое впечатление, что я от кого-то и куда-то всё время бегу.
Учебный год был ознаменован ожиданием ответа на моё первое письмо любимой девушке. Не лишне упомянуть о муках, которые я принял во время его создания. Даже на уроках чистописания я никогда так не старался выводить каждую букву. Свои чувства я решил выразить не напрямую, а через стихотворение.
Август. Приближается осень,
С тополей облетает листва.
И погода меняется тоже —
Не хочет дать солнца она.
И летят так дни незаметно,
Скоро учиться пойдём.
Только влюблённым хочется лета,
Ведь у них дружба навек.
Этот высокий тополь
Им знаком давно.
Он желтеет, а с ним уходят
Дружба, любовь и тепло.
Скоро придётся расстаться
И, может быть, навсегда,
Но дружбу, вместе с любовью,
Они унесут в сердцах.
Останется воспоминанье
Большой и светлой любви,
Тех первых слов признанья,
Что в них любовь зажгли.
И хотя стихотворение не совсем правдивое, поскольку листва с тополей в августе ещё не облетает, и не было не только первого, а вообще никакого признанья, и всё «зажглось» само собой, без слов, зато совершенно точно передаёт моё душевное состояние.
Но уже с первого ответа на моё послание меж нами образовалась трещина.
Сашенькино письмо начиналось с краткой («неплохо») похвалы стихотворения, после чего на двух страницах подробно о том, что её выбрали комсоргом класса и теперь у неё и забот, и хлопот невпроворот («извини, даже с ответом задержалась»). Избрание своё она понимала как серьёзную ответственность, высокую обязанность и даже священный долг отныне быть для всех примером. Увы, на фоне моего ироничного отношения к комсомолии всё это выглядело карикатурой. Иначе любовь моя с первого письма пошла вразрез с Сашенькиной идейностью. Я не только не разделял её взглядов, но относительно моих представлений о любви они казались мне просто смешными. Была, правда, подаренная на прощание, несмотря на плохую примету, что, собственно, для неё, как комсомолки, не имело никакого значения, фотография, с которой я засыпал и просыпался. Часами разглядывая Сашенькино изображение, я не мог совместить столь милого лица с идейным медноголосием её писем. Она писала о несознательных членах отряда, тогда как я именно к такой несознательной когорте оболтусов принадлежал. В то время, когда мне хотя бы между строк хотелось прочесть нечто отдалённо напоминающее («они студентами были, они друг друга любили»), она писала о собраниях, о нарушениях дисциплины, о работе с несознательными членами коллектива. С кем-то она там всё время боролась, кого-то постоянно старалась откуда-то вытащить, чем-то общественно полезным нагрузить, тогда как я всеми правдами и неправдами от этого отлынивал. Если бы она писала хотя бы о погоде, я бы её понял. Но из месяца в месяц получать… даже и не письма, а какие-то заметки из комсомольского «Прожектора» было выше моих сил. Не удивительно, что ни одного стихотворения я больше так и не сочинил.
Короче, как только Сашеньку загнали в идейное русло, она постепенно перестала для меня существовать как человек. Её казённую мораль трудно было списать на юношескую наивность, как-никак, а всё-таки десятый класс. В то время даже в школе к нам относились как к взрослым, которых уже не надо было опекать. Нам позволялось то, чего не позволялось больше никому. Например, свободно проходить через кордон дежурных сквозь дожидавшуюся у дверей начала уроков толпу учеников младших классов. Дежурные пропускали нас, почтительно отступив назад. Весь год мы чувствовали себя элитой, с которой школе вскоре придётся расстаться навсегда. Двоюродная Сашенькина сестра на этот случай даже где-то откопала песню.
В тихом городе ветер кружится,
Свет в окошках давно погас.
Побеседуй со мной по-дружески,
Дай мне руку, десятый класс.
Здесь, влюблённые, до рассвета мы
Не смыкали счастливых глаз.
Мы делились с тобой секретами,
Наша юность, десятый класс.
Влюблённым да ещё до рассвета нам гулять тогда ещё не позволяли, но только об этом были наши мечты. И только об этом, хотя бы в иносказательном виде, мне хотелось читать в письмах от любимой девушки.
А вместо этого, читал:
«Если бы ты знал, как я презираю предателей! И не только предателей Родины, но и предателей вообще! В глаза говорят одно, а за глаза другое. Это подло! Этого прощать нельзя! С такими людьми даже здороваться не надо! Таким надо прямо в глаза говорить: «Ты поступил подло! Ты подлый человек! Я тебя презираю!» А иначе ничего и никогда мы не построим. Мне говорят, что я слишком много на себя беру. А я отвечаю: «Кто-то же должен говорить правду! Не только жить, но и поступать надо всегда по совести!». И вот что я тебе хочу сказать. Я долго думала над твоим индивидуализмом. Я не разделяю твоих взглядов, но я не могу их не уважать, потому что это твоё убеждение. И совершенно согласна с тобой в том, что жизнь отдать или чему-то посвятить можно только по убеждению. Когда нет убеждения, страдает главное. На своём месте я бы только честных и принципиальных учеников в комсомол принимала. И даже во всеуслышание заявила об этом. Зачем порочить ряды, допускать в них карьеристов? От этого страдает главное. Не хочешь быть комсомольцем – не надо. И без тебя обойдёмся. Но ради справедливости, не закрывать дорогу в учебные заведения. Пусть учатся и видят, как живут настоящие комсомольцы. А так получается, напринимали кого попало, и они всё дело портят. Кому это нужно? Не разделяешь взглядов – вон из комсомола!»
И в самом конце:
«Прости, опять я о своём. Как ты, как учёба, пишешь ли стихи, что у тебя новенького?»
А новенькое было совершенно из другой оперы. Вместо программных произведений по литературе мы с Ткачёвым, соседом по парте, тайком читали номера «Вестника русского студенческого христианского движения» за 1970 год, добываемые откуда-то его старшим братом-студентом – он, собственно, и заразил младшего всем этим, а тот – меня.
В № 97, например, на третьей странице была помещена фотография жизнерадостно улыбающегося Солженицына, с шкиперской бородкой, которому недавно была присуждена Нобелевская премия, а у нас шла травля. И об этом знали все, а вот что присудили не в простой день, как сообщалось во вступительной статье Никиты Струве, а в день памяти преподобного Сергия Радонежского, как и о самом преподобном, я узнал впервые из этого «Вестника». В том же номере я впервые познакомился со стихами Мандельштама. Особенно поразившее меня стихотворение даже переписал, не открывая имени автора, для Сашеньки. Интересно было, что она по этому поводу скажет. Приведу его чуть ниже, а пока выпишу то, что заинтересовало меня. Выписываю только мысли, не называя авторов статей.
«Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента её возникновения, а свобода как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в чётко отлаженный и не зависящий от неё механизм чистой необходимости. В нём она даже теряет сознание своей собственной унизительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования».
Из всего этого мы с Ткачёвым сделали для себя только один вывод: мы никому ничего не должны, а сами по себе. И понятно ни строчки из этого я не переписал для Сашеньки. А вот стихотворение переписал полностью.
Пустует место. Вечер длится
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим
Напиток на столе дымится.
Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдёшь;
И на стекле не проведёшь
Узора спящими губами;
Напрасно, резвые извивы —
Покуда он ещё дымит —
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.
Она ответила, что «ничего из стихотворения твоего не поняла. Неужели сам сочинил? Для чего так туманно выражаешься? Первое было и проще и понятнее. Подозреваю, что ты просто попал под чужое влияние. Бери пример с Пушкина. У него всё просто и понятно».
Но Пушкина я тоже не уважал. И всё по той же индивидуалистической причине. Но написать об этом прямо не решился. Написал лишь, что «если бы поэзия исчерпывалась одним Пушкиным, скучно было бы жить». На что получил громоподобный ответ: «Да как ты можешь так говорить о Пушкине! Это же – Пушкин! Кто-то из великих даже сказал, что Пушкин – наше всё! Всё! Понимаешь?» Но я отказывался это понимать. Как это – всё? А я? А мой сосед по парте? А другие что, ничего не значат? По Сашенькиному мнению выходило, что «значат, но куда меньше, чем Пушкин». И этим меня ещё больше оскорбила.
Вторая мировая война началась из-за деда Щукаря. Как раз мы «Поднятую целину» проходили. И я выразил мысль, что самый умный из всей шолоховской книги – дед Щукарь, что Нагульнов – просто дурак, Размётнов – типичный приспособленец, а Давыдов – кроме всего прочего, ещё и подлец. «Это надо до такого докатиться – с женой друга переспать!»
Ответ пришёл аж на пяти страницах. Переписывать не буду, потому что ничего нового для себя не открыл. Почти слово в слово из программных сочинений по литературе: «Направляющая и руководящая роль партии в романе Шолохова «Поднятая целина». Тьфу!
В ответном послании, понятно, я выразился более обтекаемо, для большей убедительности приведя слова тёти Таи, разумеется, не назвав её имени, что в кулаки самые работящие угождали, а раскулачиванием занимались дебилы, вроде Нагульнова, и ничего в крестьянском деле не понимающая заводская шпана, вроде Давыдова.
В ответ пришло: «Расстреливать за такие слова мало! Так своей знакомой и передай!»
Разумеется, я не передал. Ещё чего не хватало! Может, ещё и отца с матерью заодно расстрелять? Они с тётушкой были одного мнения. Ну, и меня в придачу – я тоже их мнение разделял.
Третья мировая началась из-за фашизма. Вернее из-за того, что я сталинские порядки посмел с гитлеровскими сравнить. Мысль эту я выловил из того же «Вестника». Не вот напрямую: «коммунизм и фашизм – одно», а что-де очень похожие системы Сталин с Гитлером создали. И хотя на личность Ленина я не покушался, иначе бы уже не обыкновенная, а атомная война началась, всё равно вызвал очередное цунами.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.