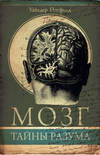Kitabı oku: «Эмоциональная жизнь мозга», sayfa 2
Вы совершенны. А теперь – изменитесь
Не существует идеального эмоционального типа, нет оптимального положения в спектре, которое отображало бы шесть эмоциональных типов, не говоря уже обо всех других возможных. Цивилизация не могла бы процветать без различных эмоциональных видов, включая и крайности, например люди, проводящие ревизию, чья префронтальная кора головного мозга и стриатум вынуждают их быстро разбираться с формой 1040, без особых усилий блокируя отвлекающие сообщения эмоциональных центров мозга, или технические гении, которым удобнее работать с машинами, нежели с людьми, потому что активность контура, отвечающего за социальное познание, снижена, из-за чего социальное взаимодействие становится для них неважным. И хотя общество называет счетоводов «помешанными», а технарей «социофобами», мир без них обеднел бы. Нам нужны все типы людей.
Тем не менее это не говорит о том, что я из тех, кто считает, что «и я в порядке, и вы в порядке», и находит все психологические типы равносильными и одинаково желательными. В описании шести аспектов эмоциональных типов вы могли заметить, что некоторые из крайностей создают впечатление почти что недееспособности, к примеру такие, как полное отсутствие устойчивости к внешним воздействиям, из-за чего некоторые восстанавливаются после несчастий настолько медленно, что это чревато депрессией. Даже если ваш эмоциональный тип не делает вас уязвимыми для настоящего психического заболевания, нельзя отрицать, что (по крайней мере, в западной культуре XXI века) некоторым эмоциональным типам непросто быть продуктивным членом общества, продвинуться в серьезных взаимоотношениях и добиться ощущения благополучия. Бывают случаи, когда желательно непонимание, а не социальная интуиция, отсутствие сосредоточенности в аспекте внимательности, неумение улавливать контекст ситуации; если нет других вариантов, некоторые из величайших произведений мирового искусства и самых монументальных достижений в математике и естественных науках возникают в измученных умах людей, плохо приспособленных к жизни. Но если не считать редких исключений в лице Толстого, Хемингуэя или Ван Гога, нам просто тяжело вести конструктивную жизнь, имея определенные эмоциональные типы.
И я утверждаю, что это должно быть проверено. Не позволяйте никому говорить, что вам нужно развить в себе большую социальную интуицию, например, или сменить тип внимательности с несосредоточенного на сосредоточенный. (Хотя, если это предлагает ваша вторая половина, вы могли бы хотя бы обдумать это.) Только если ваш эмоциональный тип мешает вам в повседневной жизни и ограничивает ваше счастье, только если он препятствует достижению целей или причиняет страдания, вы должны рассмотреть вопрос о том, чтобы приложить усилия по его изменению. Но если вы действительно решили измениться, мои исследования показали, что есть определенные эффективные методы, позволяющие помочь добиться поставленных задач, – своеобразные психические тренинги, которые могут изменить шаблоны деятельности мозга таким образом, чтобы приблизить вас к тем аспектам эмоционального типа, которые вас интересуют.
Однако мы забегаем вперед. Сначала же обратимся к тому, как я впервые стал задумываться о существовании эмоциональных типов.
Глава 2
Открытие эмоциональных типов
Сказать, что изучение эмоций было не очень популярно, когда я начинал писать свою дипломную работу на факультете психологии в Гарвардском университете в 1972 году, все равно что сказать, будто уровень сухости в Сахаре – сущая ерунда. Вряд ли какой ученый коснулся бы этой темы. С одной стороны, 70-е годы отмечены господством когнитивной психологии (этот термин был придуман только в 1965 году). Это ответвление психологии задает вопросы о том, как люди воспринимают, запоминают, решают проблемы, говорят и тому подобное, и совершенно серьезно называет человеческий разум своеобразным компьютером. Компьютеры производят вычисления без эмоций, конечно же, так что когнитивные психологи в то время рассматривали эмоции как некие незначительные «помехи», появляющиеся на пути тех ментальных процессов, которые они хотели понять.
Некоторые из выдающихся исследователей в области психологии заявляли, что эмоции вызывают нарушения когнитивной функции. Наиболее доброжелательный взгляд на эмоции среди когнитивных психологов состоял в том, что эмоции могут «вмешиваться». Это происходит тогда, когда наше поведение нуждается во вмешательстве, чтобы организм обратил внимание на какую-то ключевую информацию и изменил свое поведение. Так, скажем, мы чувствуем страх, когда видим змею на своем пути, потому что страх заставляет нас сфокусироваться на угрозе и убраться куда подальше. Или мы чувствуем печаль, когда кто-то, кого мы любим, страдает, потому что эта эмоция вмешивается и, что бы мы ни делали, заставляет нас уделить внимание нуждам близкого человека. Или же мы чувствуем злость, когда кто-то обижает нас, потому что злость велит нам сосредоточиться на враге и защищать себя. Такой взгляд противопоставляет эмоции когнитивной способности, представляя эмоции как разрушительную (хотя время от времени полезную) силу. Тем не менее в холодных и суровых исчислениях когнитивной психологии для эмоций не так уж много места. Она расценивает их как явно не заслуживающие доверия. Подобное отношение было в основном одним из проявлений презрения к тому, что такого рода «мусор» занимает тот же самый мозг, который дает начало познанию. Мысль о том, что эмоции могут быть полезны, что они способны иметь другие функции помимо вмешательства в наше поведение, противоречила идее эмоций как отвлекающих внимание и вызывающих нарушения.
Почти все исследования мозга и эмоций в настоящее время были проведены на лабораторных крысах. Эти опыты показали, что страх, любопытство, «поведение приближения» (при котором крысу привлекает, скажем, пища или особь противоположного пола, что расценивается как нечто наиболее близкое к человеческим эмоциям счастья или влечения), тревога – это все рефлекторная деятельность лимбической области и ствола головного мозга, а также гипоталамуса. Эта небольшая область располагается прямо над стволом мозга и дает сигналы телу генерировать множество висцеральных и гормональных изменений, которые зачастую сопутствуют эмоциям. В типичной научной работе экспериментатор разрушает некоторую часть гипоталамуса крысы и замечает, что она больше не проявляет страха, скажем, на приближение кошки. Разрушение другой части гипоталамуса лишает крысу интереса к размножению, питанию или борьбе. Считалось, что все эти типы поведения нуждаются в каком-либо побуждении, мотивации со стороны животного. Следовательно, вывод таков: гипоталамус является источником мотивации, потому как мотивация считается частью данных (а возможно, и каких-то других) эмоций. (Позже ученые обнаружат, что гипоталамус напрямую не участвует в генерировании мотиваций, он просто промежуточная станция для сигналов, берущих начало где-то в другой части мозга.)
Так как гипоталамус располагается ниже коры, эволюционно самой новой части мозга, к нему относились с некоторым пренебрежением. Я называю это кортикальным снобизмом: если функция возникла из деятельности в любой другой области, кроме благородной коры мозга, она должна быть примитивной и некоторым образом противоречить познанию. Такой образ мышления породил в психологии долгую дискуссию, которая достигла своего апогея в восьмидесятых годах прошлого века, противопоставляя познание и эмоции и рассматривая их как отдельные антагонистичные системы мышления и мозга.
Вдобавок к уверенности в том, что эмоции не играют никакой роли в мыслящем механизме, которым является человеческий мозг, другим препятствием к изучению эмоций было то, что в ту пору психология только выходила из мрака, видевшего еще господство бихевиоризма – школы, которая подчеркивает внешнее поведение и довольствуется этим, игнорируя все остальное. Эмоциональное поведение является честной игрой для бихевиористов, но, поскольку эмоции сами по себе идут изнутри, они вызывают подозрение и считаются неподходящими для приличного общества «настоящих» психологических явлений. В результате единственное значительное исследование человеческих эмоций сосредоточено в наблюдениях, которые сделал Чарльз Дарвин в середине XIX века. Хотя он более известен за открытие естественного отбора как движущей силы эволюции, Дарвин также время от времени рассматривал эмоции человека и животных, изучая, в частности, выражения лиц, которые отражают чувства. В 1970-х годах несколько психологов продолжили эту традицию, разбирая выражения лиц на мельчайшие компоненты (насколько это возможно). Они определяли, какие именно мышцы создают сдвинутые брови, улыбку и прочую мимику. Выражение лица было поведением, поддающимся наблюдениям и, следовательно, – тоже честной игрой для бихевиористской парадигмы. Примечательно, однако, что работа над мимикой ничего не говорит о мозге… чья таинственная работа была отвергнута бихевиоризмом как находящаяся вне пределов точных эмпирических изысканий.
Сладкие сны
Но даже в семидесятых годах я видел, что на скрытые внутренние явления можно пролить свет. В течение моего последнего года в средней школе в Бруклине я был волонтером в лаборатории сна, находящейся неподалеку от медицинского центра Маймонида (в этой больнице я родился). Участники исследования должны были появиться вечером, и затем один из ответственных за эксперимент ученых объяснил, что они должны хорошо выспаться (насколько это возможно в чужой комнате, на чужой кровати, с незнакомцами, входящими и выходящими из комнаты, с состоящей из проводов головой медузы Горгоны, приклеенной к коже вашей головы), чтобы потом перевести их в отдельную комнату. Чак, один из исследователей, должен был расположить электроды по всему лицу и на голове испытуемого. Электроды на голове проверяли волны мозга. Электроды вокруг глаз выявляли быстрые движения глаз, которые появляются во время сна. Электроды в других местах на лице измеряли мышечную активность (просто понаблюдайте за спящим как-нибудь ночью – и вы увидите, как мышцы щек, губ, лба напрягаются во время некоторых фаз сна). Чак убеждался, что электронная аппаратура работает, желал объекту сладких снов и включал полиграф – неуклюжий аппарат, тридцать две ручки которого записывали все физиологические показатели на непрерывных потоках бумаги, которая продвигалась не меньше чем на полтора сантиметра каждую секунду. Вот где я проводил время. Моя августовская работа заключалась в том, чтобы убедиться, что ручки наполнены чернилами и что чернила текли как надо. Позвольте мне сказать в свою защиту, что это было не так уж легко, как звучит: ручки часто забивались, и требовалось вставлять тонкую проволоку в центр ручки, чтобы прочистить ее. Так состоялось мое знакомство с научной методикой.
Как правило, испытуемые спали в течение нескольких минут, и данные ЭЭГ (электроэнцефалограммы) начинали стекаться в диспетчерскую. Я любил смотреть на то, как чертились волнистые линии ЭЭГ, показывающие, что человек перешел в фазу быстрого сна. Как только я хорошо освоил техобслуживание ручек аппарата, я был вознагражден работой по пробуждению спящего человека. Нужно было позвать его по имени по внутренней связи и спросить, что происходило в его голове непосредственно перед тем, как его будили. Я был заинтригован связью между остриями и волнами линий ЭЭГ и фантастическими образами и повествованиями о причудливых снах. И хотя я не могу вспомнить какую-то конкретную деталь сна, я очень живо помню, что был впечатлен тем, что фактически каждый сон содержал определенные эмоции – ужас и радость, гнев и печаль, ревность и ненависть. Этот опыт в лаборатории сна также показал мне, что один из путей понимания разума – это изучение мозга. Даже мне, пятнадцатилетнему, этот посыл был ясен: исключительно внутренние психические процессы (волны мозга и эмоциональная составляющая снов) без каких-либо внешних проявлений явно существуют и могут быть изучены в лаборатории. Вопреки утверждениям бихевиористов вам не нужно поведение – то есть действие, наблюдаемое со стороны, – чтобы иметь действительное психологическое явление.
Это подозрение усилилось во времена моего студенчества в Нью-Йоркском университете, где я специализировался по двум основным предметам – психологии и небольшой междисциплинарной программе (называемой «Столичная программа лидерства»), в которых акцент делался на небольшие семинары, а не на длинные лекционные курсы. Именно в эти годы мое юношеское убеждение в том, что психология необходима для изучения и объяснения внутренних ментальных процессов, натолкнулось на стену из мнений специалистов.
Председателем факультета психологии в Нью-Йоркском университете в то время был Чарльз Катанья, закоренелый бихевиорист. Катанья вел имеющие хорошую репутацию семинары, которые я выбрал, и после занятий мы часто вели с ним споры об основополагающем характере психологии. Катанья утверждал, что лишь поведение, наблюдаемое со стороны, представляет собой научные данные и тем самым является надлежащим объектом для изучения в психологии. Я, однако, дерзко настаивал на том, что предмет изучения бихевиористов – всего лишь маленький кусочек психологической реальности. Как насчет того, что люди чувствуют? – спрашивал я. Как можно это игнорировать? И что насчет того учебника, который я читал по курсу психопатологии и в котором (по истинно бихевиористской моде) высказывается мысль, что психические расстройства – это последствия странных, закрепляющих рефлексы случайностей? Другими словами, такие серьезные психические заболевания, как депрессия, биполярное расстройство и шизофрения, порицаются за отклоняющуюся от нормы систему поощрений и наказаний в обществе, утверждается, что люди, которые слышат голоса, не могут управлять своими эмоциями (ибо те похожи на неуправляемые американские горки) или чувствуют такое всеобъемлющее отчаяние, что думают о самоубийстве, делают все это потому, что они были вознаграждены за это или наказаны за то, что были «нормальными». Этот аргумент не только несовместим с нравственностью, как я доказывал Катанье, но также игнорирует биологию, в частности мозг! Я, конечно же, не отвратил Катанью от бихевиоризма (хотя все же забросил курс психопатологии спустя неделю), но эти продвижения и отступления помогли мне развить внимательность и убедили в том, что нечто более глубокое, чем видимое со стороны поведение, ждало своего открытия. Все, что было открыто в науке до настоящего времени касательно внутренней жизни разума, скажем так, не приводило в восторг, как я обнаружил, проводя исследования для студенческого научного доклада о личности. Это был первый раз, когда я узнал о существовании научной литературы об эмоциях. Большинство исследований человека проводилось социальными психологами, которые установили, что любая эмоция включает в себя две основные составляющие. Первая – это физиологическое возбуждение, к примеру, насколько быстро бьется ваше сердце, когда вы боитесь, или как сильно краснеет лицо, когда вы испытываете гнев. Предположительно, физиологическое возбуждение обеспечивает энергетический, или силовой, компонент эмоций – слегка ли вы раздражены, чувствуете ли такую ярость, что готовы схватиться за пистолет, немного завидуете или смертельно ревнуете. Второй «ингредиент» в этой изначально предложенной схеме эмоций – когнитивная оценка. Как следует из названия, это процесс наблюдения за вышеупомянутым сердцебиением или покраснением лица и размышления: «Кажется, я напуган (или зол)». Идея заключалась в том, что физиологическое возбуждение не определено и не разграничено; счастье ощущается так же, как и состояние злости, удивления, испуга или ревности. И только когнитивные интерпретации этого возбуждения говорят вам, как же вы себя чувствуете.
Подумайте об этом в таком ключе – а я преувеличиваю совсем немного – и вы сможете увидеть, как нелепа эта модель. Мысль о том, что не существует принципиальных качественных физиологических различий между эмоциями, означает, что нет разницы между тем, что вы чувствуете, когда вы счастливы, злитесь, печалитесь или ревнуете, и единственное, что отличает одну эмоцию от другой, – это когнитивная интерпретация или мысли, которые появляются у людей по поводу их внутреннего возбуждения. Все это кажется мне ошибочным – как лично для меня, так и с научной точки зрения. Я был недоволен этой моделью, чтобы начать разбираться в вопросе о том, всегда ли психологи думали подобным образом. Я начал читать Уильяма Джеймса, главу об эмоциях в его плодотворной двухтомной работе 1890 года «Принципы психологии». Джеймс предполагает, что эмоции – это восприятие телесных изменений. Согласно его мнению, страх, к примеру, главным образом идет от восприятия того, что наше сердце бьется быстрее или мы замираем, не в силах сдвинуться с места. Внутренние телесные изменения вызваны окружающими обстоятельствами (в данном примере это темная фигура в дверном проеме перед вами), а эмоции связаны с восприятием этих изменений. Для Джеймса различные эмоции имеют различные физиологические обозначения; они могли быть не просто недифференцированным физиологическим возбуждением, как это утверждалось в преобладающей модели.
Другим вдохновением для моего зарождающегося интереса к науке эмоций было волнение, которое я испытал, когда обнаружил, что Дарвин в 1872 году написал целую книгу об эмоциях – «Выражение эмоций у человека и животных» (сейчас вы можете скачать ее бесплатно, так как она является всеобщим достоянием). Подчеркивая отличительные признаки эмоций, в особенности выражение лица, Дарвин укрепил мои предварительные идеи о том, что разные эмоции должны быть связаны с различиями в физиологических особенностях. После того как я прочел Дарвина, я был убежден в трех вещах: в том, что эмоции имеют центральное значение для понимания важных качеств человеческого бытия, что в доминирующем подходе к эмоциям в современной психологии имелись серьезные недостатки и что мозг должен находиться в центре внимания любого исследования эмоций. Полное понимание разума, как я полагал, было просто невозможно без исчерпывающего понимания эмоций. Если бы наука не смогла понять эмоции, она никогда не смогла бы понять и личность, темперамент, заболевания (такие, как тревожные расстройства и депрессии) и, вероятно, когнитивные способности. Также я был уверен в том, что ключ к удивительной тайне человеческих эмоций находится в нашем мозге.
Несмотря на всю еретичность моих утверждений, Нью-Йоркский университет присудил мне степень по психологии. Я подумывал об аспирантуре, но мое «иконоборчество» (в частности, моя настойчивость по поводу рассмотрения мозга при изучении эмоций) не позволяло с легкостью найти подходящее место для дальнейшей работы. Меня привлекал Стэнфордский университет, и я направился туда с визитом. Там я встретил профессора психологии Эрнеста «Джека» Хилгарда, известного и просто очаровательного персонажа (до перехода на факультет психологии его приняли в теологический университет Йеля), который был примечателен тем, что внес свой вклад в теорию обучения, а позже и в науку гипноза, особенно в то, как при помощи гипноза контролировать боль. Мне понравилась идея обучения с Хилгардом, но он отговорил меня от поездки в Стэнфорд, так как на факультете психологии не было никого, кто бы занимался хоть какими-то биологическими исследованиями человека. Я подал заявку в образовательный центр городского университета Нью-Йорка, где, как я думал, буду на своем месте, а также в Гарвард. Там, во время прохождения собеседования, у меня состоялся замечательный разговор с Гари Шварцем, изучающим психофизиологию. В тот момент мы уже приблизились к мозгу: «психозиология» в данной дисциплине относится к таким телесным изменениям, как частота сердечных сокращений и кровяное давление. У меня также было собеседование с профессором психологии Дэвидом Макклелландом, который был известен всему университетскому городку своим участием в деле Рама Дасса десять лет назад. В то время Дэвид был директором Департамента социальных отношений Гарварда, который поддерживал исследование молодого преподавателя по имени Ричард Альперт. В рамках этого исследования студентам давали психоделические наркотики, такие как псилоцибин (Тимоти Лири, прославившийся исследованиями эффектов ЛСД, сотрудничал с Альпертом в его изысканиях). В Гарварде имели лишь смутное представление об этих исследованиях, тем более что Альперт зачастую принимал наркотики сам, что, как предполагали критики его работы, могло сделать для него затруднительным точное наблюдение воздействия психоделиков на добровольцев. К тому же пара студентов в результате участия в исследовании оказались в психиатрической больнице. В 1963 году университет уволил Альперта, который впоследствии сменил имя на Рам Дасс.
Я был не слишком в курсе всего этого, что только увеличило мой интерес к Макклелланду и придало храбрости поднять в разговоре такую тему, которая, затронь я ее в разговоре с любым другим видным исследователем психологии, серьезно ослабила бы мои шансы на поступление. Я как раз недавно прочел автобиографию Карла Юнга «Воспоминания, сновидения и размышления», которая произвела на меня большое впечатление. Я знал, что современная психология в значительной степени избегает Юнга из-за его нетрадиционных идей (например, о коллективном бессознательном или теории архетипов), но все-таки нашел некоторые из его наблюдений весьма проницательными – особенно те, что касались индивидуальных различий. Юнг был первым психологом, который говорил об интроверсии и экстраверсии как о характерных чертах личности и делал предположения о психологических и физиологических различиях людей каждого из этих типов. И каким-то образом мы закончили наш с Макклелландом разговор, обсуждая Юнга. Я был впечатлен тем, что такой знаменитый гарвардский профессор психологии был открыт для подобных идей, это укрепило меня в решении, что Гарвард – подходящее для меня место. Туда я и отправился, решив окунуться в исследования мозга и эмоций. Я не собирался позволить перспективе работы в академическом болоте (местном, а не в Гарварде) меня спугнуть.