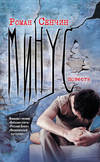«Наш последний эшелон» kitabından alıntılar

— Знаешь, мне теперь нравится бывать в церквах, — признаётся она. — Я ничего не знаю о вере и поэтому не могу верить, как надо, но, кажется, чувствую. Что-то чувствую такое...
Ну конечно, конечно! Сюда таким и дорога. Сперва поживут, погрешат вволю, а когда приходит время задуматься — так лезут в церкви, к иконам, к свечкам, крестикам, ладанкам всяким. Все эти сухонькие, пришибленные старушки, они что, всегда, что-ли, были такими? Да ещё недавно они выделывали в своём последнем сучьем полёте, что вам пока и не снилось, а теперь — на коленки, конечно, сморщенными пальцами ко лбу, к животу, к правому плечу, левому, нашёптывать что-то там о спасении и сохранении своих жалких, лживых душонок.

Красота — это ложь. Людям свойственно убожество и безобразие, и поэтому они стремятся создать красоту, а потом восхищаются ею. Их питает красота, как меня гашиш... Но любая красота — от природной до какой-нибудь красоты души — обязательно перерождается в безобразие. Обязательно. Сколько передохло людей, пока строили сей великолепный дворец? Вот бы раскинулось рядом с ним кладбище упавших, надорвавшихся, задавленных, забитых, тогда бы задумались многие — восхищаться или снять шапку. Архитектор такой-то, эпоха такого-то. А про мурашей никто и не вспоминает.

Да ничему она никого не учит, эта история, нет у неё ни линейности, ни цикличности, ни чего другого. Сел царь и давай экспериментировать — вот тебе и новый этап. А стадо засучило рукава, принялось строить или разрушать, воевать или дружить, голодать или обжираться, пить или заниматься физкультурой.

А больше в искусстве я просто ни во что не въезжаю. Мне непонятны какие-то там полутона, линии, мифические сценки; мне доступно только простейшее. Вот «Деревенский праздник», тоже неплохая вещица. Один блюёт, другой мочится на стену, третий так реалистично залез бабище под юбку... Прикольно.

В прошлый раз мы много говорили о литературе. Тогда как раз появилась вся эта «неизвестная классика», и я был увлечён ею. Искал деньги, бегал по магазинам, поглощал книги одну за другой. А потом мне стало понятно. Да это просто старые желчные уроды! Они измазались жизнью, пережили себя как людей и сели писать. Кучка тридцатипятилетних мужчин с опавшими членами. Они нюхали свои подмышки и описывали свои ощущения. У всех у них первые вещи ещё занимают, я видел там близкое, я удивлялся. А второе, третье, десятое... Станок для зарабатывания денег. Они сделали из этого бизнес.

Кругом бездушные люди, продавшие души. Они больше не способны заплакать искренне, засмеяться. Их не трогает, как распускаются цветы под ногами, как солнце блестит. Поэтому они не Пушкины. Они окутаны плёнкой... И всё сильней и сильней. Плёнка эта как паутина.

Я не хочу работать, а она может предложить только работу. Там надо горбатиться, потеть, скучать за три сотни, пусть даже за пять. А что это такое — пять сотен?.. Вот они, они же после своего трудового для ничего больше не могут, он выжаты и опустошены. Они доползают до дому, впихивают в себя ужин, всё равно что, падают в кресло или на диван и смотрят в телик, пока могут, а потом засыпают тяжёлым сном с кошмарами. И так непрерывно, пока не износятся.

Людям необходимы праздники, не календарные, а просто, этакие дни психологической разгрузки, отдыха, чтобы потом, отдохнувшими или внушившими себе, что отдохнули, плюхнуться обратно в вонючее месиво существования.

Жизнь, она всего-навсего затяжной прыжок из одной ямы в другую.

Мне хочется сказать девушке-мамаше, до зуда захотелось буквально: «Вот так, сестренка, вот так и пройдет твоя сознательно-бессознательная жизнь. Вот так ты и будешь стоять то за тем, то за сем. Будешь с ребенком мучиться, готовить пожрать своему мужу, производителю материальных ценностей, очаг поддерживать в чистоте. Вот так, сестренка, таковы перспективы. И стремительно будешь ветшать. Плакать будешь, работать и есть».