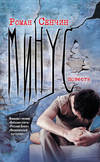Kitabı oku: «Нубук», sayfa 2
3
Да, этот разговор не добавил оптимизма в существование нашей семьи. Наоборот, будто оборвалась веревка, что связывала, страховала нас, делала одним целым. И хотя твердо решено не было, ехать мне или нет, но так или иначе все дела, заботы теперь несли на себе печать скорого моего отъезда. Перебирая белье в шкафу, мама вздыхала: «Ни одной майки у Романа нет новой, да и рубахи… А обувь-то! Туфли совсем расползлись – не то что в Ленинград, а по деревне стыдно пройти…» Я отвечал, что с одеждой у меня порядок, но из первой же поездки в город после нашего разговора родители привезли мне новые кроссовки, две рубашки, футболку, трусы, несколько пар носков. Я хотел рассердиться, а вместо этого поблагодарил и намекнул, что надо бы тогда и новые джинсы…
Деньги, лежащие в заветной шкатулке, стали восприниматься родителями как сумма, предназначенная для Питера. Я было попытался объяснить, что Володька обещал выслать мне на дорогу, обещал обеспечить на первое время; отца эти мои слова оскорбили: «Не надо совсем уж голодранцем казаться! У тебя есть деньги, ты их заработал. Возьмет он на работу, будет платить – хорошо. А до этого времени нужно иметь на что себя прокормить. И на билет у тебя есть. Мы не какие-то нищие, просто, конечно, не миллионеры».
С каждым днем, словно бы вместе с уходящим, вянущим летом, я острей и острей чувствовал тоску по новому, по новой жизни; чаще и сами собой вставали перед глазами питерские проспекты, мосты, метро; затхловатый ветерок с близкого пруда казался запахом воды в Фонтанке… Деревня, привычная, с которой вроде сроднился за эти пять лет, становилась все убоже, враждебнее, темнее, наша избенка – неуютнее и теснее, и я уже удивлялся, как сумел прожить здесь так долго. Наверное, шок от переезда вызвал что-то вроде ступора, омертвения, а теперь я очнулся… Неудобная баня, сортир во дворе, скотина, однообразная работа на огороде – они мучили, надоели, вызывали почти ненависть и отвращение. Внешне ничего не изменилось, но я был убежден: еще месяц такой жизни – и я не выдержу. Я, без всяких пока видимых причин, снова превратился в городского человека, которому чужды, непонятны сельские заботы, который брезгливо поглядывает на этих людей и сторонится их, грубых, неумытых, туповатых…
И вот в субботу двадцать третьего августа я решился объявить родителям, что завтра хочу съездить в город, позвонить Володьке, узнать насчет билетов.
Они отреагировали спокойно, даже слишком спокойно. Отсчитали из шкатулки полтора миллиона.
– Зачем так много?! – Я сунул руки за спину – не возьму, дескать, столько.
Мама удивилась:
– Ну а как? На билет, на джинсы! Подстричься. Сумку бы надо новую, это тоже тысяч сто пятьдесят… Может, и бритву, у вас ведь с отцом одна на двоих…
Согласно кивая, я принял толстую пачечку. А на другое утро в половине девятого был у сельмага на остановке, щелкал мягкие, сладковатые семечки, выковыривая их из подсолнухового блина.
Давно я не ездил в город – меня туда и не тянуло. Хоть и маленький он, напоминающий скорее поселок, но по сравнению с нашим Захолмово в полсотни дворов совсем другой мир. Силы вытягивает своей суетой, светофорами, расстояниями почище любой деревенской работы. И возвращался я оттуда всегда с раскалывающейся головой, опустошенный, разбитый, хотя и считал этот день, день в городе, выходным.
Сегодня получилось иначе. Я сразу почувствовал и в себе и в городе нечто новое, что тут же объединило нас, почти сдружило. Выйдя из автобуса возле универмага, попав в энергичный городской ритм, я смутился подсолнуха у себя в руке и бросил его в урну. Купил пачку «Союз – Аполлон» вместо «Примы», которую курил все последние годы, и, вставив меж губ фильтровую сигарету, пошагал к главпочтамту, где находился и междугородный телефон.
Достал из бумажника Володькину визитку (далеко уже не свежую, оттого что частенько мусолил ее, читал надписи, номера телефонов), набрал «8», код Питера и еще – семь цифр его домашнего телефона.
Долго, казалось, очень уж долго ждал, вслушиваясь в какие-то далекие шорохи, всписки и трески, и наконец в ухо влился первый длинный гудок. Второй, третий, а потом Володькин, но какой-то ненастоящий, неживой голос сказал: «К сожалению, меня в данный момент нет дома. Свое сообщение вы можете оставить после сигнала». Мгновение тишины и вот перезвон механических колокольчиков. Я почувствовал, как вспотело ухо, увлажнило равнодушную трубку; язык не шевелился, я смог лишь невнятно промычать, невнятно и озадаченно. «Спасибо!» – ответил тот же ненастоящий голос Володьки и вслед за ним торопливо запикало.
Я вышел из душной кабинки, повторяя одно и то же: «Вот и всё… вот и всё…» Почему-то позвонить в офис или на сотовый я не додумался. Маленькая, случайная неудача – не застал, видите ли, Володьку дома – показалась мне глухой, несокрушимой стеной. Новая, такая вроде бы близкая жизнь, поезд, Питер, череда интересных открытий вдруг растворились, за ними же открылось: пустой, унылейший огород в октябре, ледяные, до костей пронимающие порывы ветра, почерневший, погрубевший целлофан, который нужно аккуратно снять с теплиц, свернуть в рулончик и спустить в подпол, чтоб на будущий год в апреле накрывать им грядки с ранней редиской; пятнадцать соток картошки в поле, которую нужно выкопать, просушить (ведь обязательно во время копки будет лить дождь), тоже спустить в подпол, чтоб зимой доставать и есть; монотонная шваркотня пилы по бревну, которое нужно разделить на чурки, затем расколоть и сложить в поленницу, чтоб в морозы печку топить; семь походов к колодцу, чтоб затаскать баки и чаны в бане и потом помыться… И еще куча разнообразных и в то же время отупляюще однообразных дел, из которых состояли прошедшие пять лет и будут состоять следующие… Да нет! Я же почувствовал возможность вырваться и как-нибудь обязательно вырвусь… Сесть в поезд, а там будь что будет.
И все три часа, стоя в очереди к железнодорожной кассе, я был уверен, был бесстрашно уверен: купив билет, освобожусь. Единственное, что теперь заботило – хватит ли? Ведь вон сколько людей, облепили все три окошечка, растянулись по залу извилистыми змеями. Все едут куда-то, и едут, скорей всего, туда, на запад, в сторону Свердловска, Москвы, Питера. Достанется ли и мне билет? Маленький, спасительный кусочек бумаги…
В конце концов передо мной больше нет ни одной спины, и я смело объявляю кассирше:
– Один до Петербурга. Плацкарт.
– Число?
– А? – я растерялся. – Ну… там… на двадцать восьмое… Да, на двадцать восьмое.
Молодая женщина с серьезным, бледным лицом, постукивая по клавишам компьютера, смотрела в невидимый мне экран, и мне казалось, там, на экране, горит разноцветием тот яркий мир, и сама кассирша на его пороге, и вот-вот впустит меня.
Ошалело, не веря, я изучал, проверял оранжевенькие листочки, читал свою фамилию «Сенчин», старался запомнить номер поезда, место, время отбытия и прибытия, время в пути… Каких-то семьдесят пять часов – и я в Москве, а потом всего лишь семь с половиной от Москвы до Питера. Совсем, совсем ничтожные цифры, если сравнить их с другими, тысячами часов, что когда-то проторчал я в армии, потом – в скучной, бесцветной деревне Захолмово.
Ехал домой в тесном, набитом людьми «ПАЗе», сдавленный влажными от пота телами, но почти не испытывая неудобств. В нагрудном кармане рубахи, застегнутом на обе пуговки, лежали билеты, а в новой дорожной сумке были новые, за триста пятьдесят тысяч рублей, черные джинсы «Dior». Я подстригся, купил электробритву, зубную щетку, отбеливающую пасту «Аквафреш», и сам казался себе новым, свежим, отбеленным. Голова не болела, не чувствовалось никакой опустошенности, тяжести. Город сегодня снова принял меня.
– Ну как? – с несколько натужной бодростью спросил отец, поднимаясь с корточек; он обрезал усы виктории.
– Все нормально. Договорился, купил билет, – так же ответил я, так же бодро, но и слегка натужно.
– На какое?
И мой тон сам собой изменился, я сказал обреченно, точно бы не я был волен выбрать день отъезда, а кто-то приказал мне купить именно на это число:
– На двадцать восьмое.
– Значит, четыре полных дня осталось.
– Да…
Отец достал сигарету, размял ее черно-зелеными от земли и травяного сока пальцами, закурил. Посмотрел на огород, на пруд, дальше, на тот берег с избушками, заборами, сараюшками; на невысокую, поросшую осинником гору; куда-то еще за нее, где далеко-далеко были другие деревни, огромные города, незнакомые люди, их своя, незнакомая жизнь…
– Что ж, – вздохнул, – надо до этого времени в бор помотаться, дров привезти.
– Съездим, конечно! – отозвался я поспешно, обрадованный столь будничными словами, заботами отца; судя по его взгляду, он собирался сказать другое.
Перед рассветом падал густой, плотный туман и укрывал собой деревню почти до полудня. Хотелось вытягивать руки и, разбивая его, как какую-то беловатую воду, поплыть. Предметы выступали размытыми пятнами, даже самая обычная крыша представлялась башней сказочного средневекового замка. Звуки становились глухими и приходили точно издалека, точно захлебываясь и преодолевая многочисленные препятствия.
Каждый день мы ездили с отцом за дровами. Забирались подальше в лес – вокруг деревни давно уже все было вычищено, вытаскано на руках, вывезено на машинах, мотоциклах, телегах соседями да и нами самими – и собирали валежник и сухостой.
Пока отец обрубал сучки, я бегал поблизости, срезал найденные грузди, маслята, рыжики в пакет, а в ведро ссыпал наскребанные со мха розоватые, только еще поспевающие ягодки брусники… Ох как тянуло походить по лесу не спеша, почти крадучись, осторожно, высматривать грибы, как охотник пугливую добычу, очищать кочки от брусники до последнего розоватого шарика, слушать шелест умирающих листьев, дышать ароматом перезревших лесных трав, но времени не хватало, и я торопился вперед и вперед, ломая ветки, разрывая лицом сети паутин, и каждую секунду прислушиваясь, не сигналит ли из «Москвича» отец, кончив свою работу.
Когда раздавался гудок, я мчался на него, судорожно, на ходу подбирая грибы, не глядя, червивые или нет (мама потом разберется), цепляя пятерней самые соблазнительные гроздья брусники. Да, времени не было, дома ждали другие, никогда не переводящиеся дела. И чем ближе подходил мой отъезд, тем неотложней становились они; ведь не только мой отъезд приближался, приближалась и осень, новые атаки дождя, первые заморозки, а там уж вскоре и снег…
Медленно поддается зубьям толстый, почти что железный комель березы; пила шваркает по нему бесяще нудно, словно бы по одному месту, не углубляясь, не находя зацепки, лишь по чуть-чуть соскабливая меленький, желто-розовый древесный песок. Ручка пилы обжигает, и моя ладонь тоже горячая, она натерлась, кажется, сейчас кожа лопнет, порвется, – спасают мозоли.
Мы работали молча, напряженно глядели на распил в стволе, мы как будто гипнотизировали упорный комель, заставляли размякнуть, не сопротивляться, ведь все равно наше упорство его победит.
И вот отвалилось полуметровое, с толстой окостеневшей берестой бревешко, а дальше, ближе к вершине, пойдет легче. После березы уже подготовлен подгнивший ствол сосенки, он и вовсе как масло, но и жара от него будет не шибко…
Напиленные метра по полтора, а толстые – и того короче бревна водружаем на прогнутый, много чего за свой век повозивший багажник над крышей «Москвича». Несколько коротеньких чурок помещаются в задний багажник, еще кое-что в салон, на место убранного перед поездкой заднего сиденья.
– Неплохо, – устраивая пилу меж бревешек произносит отец, – недельки на две-три добыли. Завтра, даст бог, еще…
Осевший, загруженный под завязку «Москвичок» через силу ползет по лесному проселку, поддоном шлифует бугор меж колеями.
– Так, глядишь, помаленьку и на всю зиму навозим, – продолжает отец успокаивать себя и меня. – Уголь-то еще неизвестно, будет, нет. Заказ сделали, но даже ветеранам пока, слышал, не возят…
Отдаю маме грибы и ягоду, она радуется:
– О-о, ну и грузди! Один к одному, как на подбор. И брусника какая крупная в этом году!.. – И тут же слегка досадует: – Жалко, мне всё в бор выбраться не получается. Денек бы побродить хорошенько. Ведь опять упустим, а так хорошо с брусникой зимой, с грибами солеными… Но как? Весь день на ногах сегодня опять, а что успела? Обед приготовила, лук повыдергала из грядки, сушить разложила, помидоры перебрала, в доме хоть прибралась маленько…
Я тоже досадую, что не могу спокойно, основательно, с раннего утра, вооружившись ведрами, торбой, ножом, в высоких резиновых сапогах, штормовке забраться подальше от деревни, куда другие не доходят, а к ночи вернуться, согнувшись под тяжестью добычи, усталым, счастливым. Но досада эта сейчас почти лживая, в глубине души мне все равно, ведь я не увижу в подполе ровные ряды банок с грибами и засахаренной брусникой, не похлопаю удовлетворенно свежую, выше моего роста поленницу; я не обмакну в декабре маленький, аккуратненький рыжик в жирную, желтоватую сметану, не обогрею морозным днем избушку теми дровами, что сейчас запасаю.
Совсем скоро я отсюда уеду. Уеду далеко, а когда вернусь? Если все сложится удачно, то, может, и не вернусь. По крайней мере – как хозяин…
4
В последний вечер слегка попрепирался с родителями. Мама, суетясь, волнуясь, накладывала на диван все новые и новые вещи, лишние, совсем мне не нужные там, куда я отправлялся: ложки, вилки, чашку, тарелку, три полотенца, зимнюю куртку (пробовал уместить ее в сумке – заняла почти всю), стопки выглаженных маек, трусов, рубашек…
Я сопротивлялся:
– Да зачем мне все это? Что я, в тайгу, что ли, собираюсь? И как потащу… тут на два баула…
– Ну а как же? – запыхавшись, свистящим голосом отвечала мама. – Сменное белье должно же быть, посуда, еда в дорогу…
– Но ведь не столько же. – Я стал отбирать самое необходимое.
– Понятно, что налегке лучше, – остановил отец, – а потом что делать? Ведь все сразу не купишь. Я тут на чердаке сумку нашел. Старая, правда, но еще крепкая. Почистили, вроде не стыдно ее взять. И вместительная. Надо, Роман, иметь при себе кое-какой багаж. А то получается – вот он я, заявился, подарочек.
Мама тоже поднасела, а я не сдавался. Не было у меня никакого желания представать перед Володькой этаким каликой перехожим, увешанным мешками, чайником, со свернутым матрацем за спиной… Да и когда я встречусь с Володькой? – ведь я ему так и не позвонил, не сообщил, не договорился. Может, придется и на вокзале заночевать…
Но сама причина размолвки, пусть небольшой, почти обычной в семейных буднях, была даже не в том, брать столько-то вещей или меньше, а в раздражении, страхе неизвестности, что там ожидается дальше. Я, как ни крути, откалывался от родителей, и они стремились, наверняка подсознательно, сделать мою часть наследства… не наследства, – как назвать? – побольше. Пустить дальше с запасом хотя бы самого нужного.
И утром, после плотного завтрака и трех рюмок водки «на дорожку», за час до автобуса, в самый последний момент, отец достал из шкатулки почти все, что там скопилось, протянул мне:
– Вот, Роман, три с половиной миллиончика. На устройство.
Я, конечно же (и уже как-то привычно), возмутился:
– Зачем столько?! Я же работать еду, не на курорт! Миллиона хватит за глаза. У вас тут у самих расходов…
– Держи, и давай без споров, – теряя спокойную интонацию, перебил отец. – Мы дома как-никак остаемся, а тебя непонятно пока что ожидает. И будь там поосмотрительней. Работа работой, но в авантюры старайся не ввязываться.
– И с незнакомыми никуда не ходи, – добавила мама почти плачущим голосом. – Тут показывали – парень из Кемерова в машину к каким-то сел, они его усыпили, а очнулся в Чечне… – И, видя, что я все еще не решаюсь принять деньги, она фальшиво-испуганно затараторила: – Ой, выходить же пора! Автобус бы не пропустить. – Сунула мне в руки новенькие коричневые плавки с синей и белой полосками по бокам. – Вот я тут кармашек пришила с пуговкой, деньги сюда положи. Все надежней, а то ведь в поездах теперь чего только не бывает – жулик на жулике…
С деньгами и плавками я оказался в своей комнатушке. Бурча, что все это глупости и что столько мне совсем не нужно, переоделся, спрятал в кармашек три миллиона, а остальное сунул в джинсы. Родители ждали на кухне, держа в руках дорожные сумки.
– Подумай, ничего не забыл? – полувелела-полуспросила мама.
Я огляделся, подумал… А что я мог здесь забыть? Паспорт, билеты, Володькина визитка были при мне, бритва, зубная щетка, еда – в сумках… Что бы еще такое взять с собой? Какую-нибудь книжку из домашней библиотеки? Безделушку, знакомую с детства?.. Нет, ни к чему не потянулась рука. Не надо цепляться за старое, оно только мешает. И я мотнул головой:
– Ничего.
– Н-ну, – отец повернулся лицом к двери, – тогда пойдемте.
Рядком на бетонной завалинке, подложив под зады газеты и дощечки, сидели старухи и старики, кто с потертыми сумочками из искусственной крокодильей кожи, кто с цветастыми пакетами, другие – с мешками и ведрами (скорей всего, на базар торговать собрались). Поблизости, не спеша, убивая время, прохаживались более молодые. Пацаненок лет шести, в модной, будто надутой воздухом куртке, грыз, морщась, маленькое, явно в здешних краях выросшее яблоко.
На наше «здравствуйте» никто особо не отозвался, а некоторые и вовсе сделали вид, что не расслышали. Да и, правду сказать, отношения у нашей семьи с местными далеко не теплые. Нет ни друзей, ни хороших знакомых; в гости пригласить некого и сходить – тем более… За глаза, знаю, нас называют «китайцами», наверное, из-за того, что целыми днями ковыряемся в огороде, выдумываем разные хитрости, чтоб побыстрей созрел урожай и было его побольше; несколько раз наезжали к нам люди из энергонадзора, проверяли, нет ли в теплицах обогревателей, не находили (они у нас надежно замаскированы) и, подобрев, рассказывали, что их завалили жалобами – мол, сжираем мы немеряно электричества…
Родители мои на пенсии, хотя по возрасту еще вроде как не подходят; дело в том, что та республика, где жили до переезда сюда, приравнена к районам Крайнего Севера, и пенсия там у женщин с пятидесяти, а у мужчин с пятидесяти пяти, да и размер этих пенсий выше, чем у многих здесь… В общем, поводов для неприязни хватает.
Среди молодежи у меня тоже друзей не нашлось. Сначала, в первое лето, приятели, кажется, появились, по вечерам я ходил в клуб на танцы, кино посмотреть, с девушкой одной стал встречаться, на вид довольно-таки симпатичной; но потом понял, какая разница между мной и деревенскими. Не знаю, кто лучше, кто хуже, но огромная разница. Совсем разные мысли, интересы, разговоры, даже набор слов… И постепенно я перестал с ними общаться; приятели тоже потеряли ко мне интерес, девушка задружила с другим, о клубе по вечерам я не вспоминал, а смотрел телевизор или перелистывал книги, которые до сих пор, как колонны, громоздятся в моей комнатушке… В городе я бывал редко, там тоже ни с кем особенно знакомства не свел. Хотел было попытаться поступить в пединститут, но все тянул, а в двадцать пять лет становиться абитуриентом показалось мне глупо… Так что никого и ничего не жалко было оставлять здесь, разве что родителей. Хотя рано или поздно оторваться необходимо…
Почти по расписанию подкатил маловместительный «ПАЗик», и сегодня не возникла у его дверей толкотня, не слышалось перебранок, – день будний, пассажиров немного, сиденья, кажется, достанутся всем.
Водитель проверял пенсионные удостоверения, принимал плату, выдавая взамен билетики. Мы стояли в стороне, чего-то ждали. Глядели на уменьшающуюся кучку людей у автобуса и молчали. И лишь когда уже и мне пришло время достать из кармана деньги и протянуть водителю, мама скороговоркой посыпала:
– Сообщи сразу же, как приедешь! Слышишь, Рома? В поезде ни с кем не выпивай, не играй в карты, ради бога! Будь осторожней. Слышишь?.. На станциях что попало не покупай, всякая зараза там может… Береги себя, сынок! Слышишь?..
Я машинально кивал, глядя то в землю, то на водителя, про себя торопил его поскорее сказать: «Ну, поехали, время!» И вот он, запустив всех, покручивая в руках рулончик билетов, объявил:
– Отъезжающие, заходим. Пора!
Я пошел к «ПАЗику», мама продолжала напутствовать, борясь со слезами, отец, покряхтывая, глубоко затягивался сигаретой и щурился…
Поезд из Абакана отходил неудобно – во второй половине дня. Пришлось долго сидеть на скамейке возле перрона, обложившись сумками, ждать. Впереди, я помнил, многочасовой, нудный отрезок пути по территории Хакасии, где поезд тормозит на каждом полустанке, зачем-то подолгу стоит, изматывая пассажиров. Это потом, уже под утро, он выберется на Транссиб – в Ачинске, – тепловоз заменят электровозом, и защелкают километры, как семечки, и каждая остановка станет значимой, радующей, приближающей к цели, к концу вагонного мытарства. Люди заранее будут готовиться выйти на воздух, поразмяться, купить чего вкусненького и удивляться: «О, уже Свердловск! Ну, прощай, Европа, счастливо!.. Что это, Тюмень?! Здорово, Сибирь!.. Ух ты, Новосибирск! Уже, считай, почти дома…» Нет, что я! Теперь наоборот, теперь все наоборот – Новосибирск, Тюмень, Свердловск, Москва. А потом – Питер.
Первый раз я увидел поезд почти в восемнадцать лет в Ленинграде, на Московском вокзале, и с тех пор частенько после занятий в училище приезжал туда, покупал парочку семикопеечных пирожков-тошнотиков, – жирнющих от растительного масла, с хрящеватым ливером внутри, – и смотрел, как отходят и подходят составы, вдыхал смесь из запахов сгоревшего угля, пыльных одеял, чего-то тухловатого, и эта смесь представлялась мне ветром дальних дорог… Я разглядывал усталых, измотанных многодневной поездкой людей с тяжеленной ношей, как каких-то инопланетян; проводники казались мне счастливыми, столько повидавшими избранниками судьбы, а сам поезд – намного таинственней и притягательней самолета.
К самолету я привык, знал его с детства. Ведь та республика, где я прожил первые семнадцать лет, отрезана от остальной России цепями Саянских гор, железную дорогу туда никогда строить всерьез не планировали, – автомобильный тракт, километров четыреста, и тот пробивали несколько десятилетий… Автомобиль или самолет – единственные средства передвижения, чтоб оказаться по ту сторону гор. И самолет в семидесятых-восьмидесятых годах был доступен многим – на ежедневный рейс Кызыл – Красноярск билетов было часто не достать…
Родители по работе время от времени летали в Красноярск, брали с собой и меня. Потом, уже самостоятельно, я летал к бабушке в Шушенское на «воздушном такси» за тридцать рублей, и, наконец, после школы, быстрым, двухсалонным «Илом», с кормежкой, прилетел в Питер вместе с Володькой, чтоб через три месяца загреметь в армию… А спустя два с половиной года, в декабре девяносто первого, возвращался домой поездом, на верхней полке плацкартной купешки. Почти четверо суток.
И вот снова поезд, снова плацкарта, снова впереди почти четверо суток пути. И что там меня ждет, через эти четверо суток…
Медленно, словно бы нехотя, как-то сонно постукивая колесами о рельсы, на ближайшем к вокзалу пути появился длинный голубовагонный состав. Растянулся, не показав мне хвост и спрятав голову за одноэтажным домиком с непонятной вывеской «ДС-14», остановился, затем, будто спохватившись, что встал не совсем правильно, дернулся, громыхнув стыками вагонов, прокатился еще несколько метров и снова замер. Подумал, прошипел что-то, то ли умиротворенно, то ли ворчливо.
На стене вокзала висят большие круглые часы. Половина первого. Московское время. Там, на западе, только начинается день, а у нас почти вечер – на четыре часа больше…
Как по команде, почти разом, стали открываться двери вагонов, за ними появились проводники, потягиваясь, зевая оглядывали перрон, вокзал, будущих пассажиров с их сумками, чемоданами, коробками. И люди на перроне, будущие пассажиры, глядели на поезд, свое временное жилище, ожидая объявления, разрешения вселяться, разложить вещи, сменить уличную одежду на домашние маечки, халаты, тапочки… И ехать, ехать, каждому по своим делам, но в основном, наверно, к месту оседлой жизни, к месту работы, раз в год лишь прерываемым отпуском. Вот он, кажется, у многих закончился, и пора начинать следующий сезон.
– Объявляется посадка на поезд номер шестьдесят семь, следующий маршрутом, – разрезал мелкие шумки мощный голос из громкоговорителя, – Абакан – Москва. Поезд находится…
Я вскочил, взвалил на плечо сумку и тут же одумался, поставил обратно. Сел, достал сигареты. Куда спешить? Ведь сорок минут до отхода, еще успею залезть в вагон, успею устроиться, еще успею там одуреть.
И другие, вздрогнув, дернувшись, тоже замерли, расслабились, успокоились – поезд подан, посадка объявлена. Все нормально, можно не нервничать, потянуть время, еще раз перекурить, сказать что-нибудь доброе и ободряющее провожающим; сказать с тем слегка высокомерным добродушием, что свойственно человеку, отправляющемуся далеко-далеко.
Выжженная шлаком, мазутом, черная неживая земля, гравий, пропитанные креозотом шпалы, а на них то отшлифованные до зеркальности, то заржавелые ленты рельсов. Сейчас их много, они сплетаются, пересекают друг друга, расходятся в стороны, обрываются холмиками тупиков; на них стоят вагоны, тепловозы, цистерны, товарняки. Да, сейчас рельсами, кажется, занято все на много километров и влево и вправо, но скоро они соединятся, сольются, как ручьи, в одну полноводную реку и лишь время от времени, словно протоки, будут делиться разъездами, превращаться в разливы станций.
Посадочная суета постепенно стихла, люди рассовали свою поклажу под сиденья, на третьи полки; тут же многие ее доставали, найдя или не найдя что-то нужное, убирали снова. И вот удовлетворенно уставились в окна, привыкали к движению, к соседям, к неизбежным неудобствам и тесноте. Некоторые принялись за еду, выгрузив на стол непременный дорожный набор: морщинистая копченая колбаса, яйца вкрутую, огурцы, помятые, потекшие помидоры, толстыми кусками нарезанный хлеб, газировка или пивко и, естественно, добротно зажаренная курятина…
Мне тоже хотелось перекусить, ведь полдня протомился на привокзальной скамейке, но сумку с продуктами я опрометчиво – по примеру других – сунул под сиденье, а теперь лезть за ней, беспокоить соседей было неловко. Да и само поглощение пищи в окружении посторонних меня с детства стесняло. Будто я делаю нечто постыдное… Правда, в армии это исчезло, там все приходилось делать на людях: есть, мыться, ходить в туалет, одеваться и раздеваться, – но зато за пять последующих лет, когда общался в основном с родителями, я снова отвык от людей, даже слегка стал их побаиваться, разговаривая, порой даже не мог понять, о чем они ведут речь… Хотя это просто мои личные комплексы, моя беда, – надо привыкать, ведь впереди ждет большой мир, сотни незнакомцев окружат меня, и, если увидят, какой я на самом деле, это, конечно, не пойдет мне на пользу. Кому я буду тогда интересен? Необходимо научиться быть смелым и коммуникабельным, уверенным в себе, как уверен в себе Володька, как тысячи подобных ему, понявших, как надо правильно жить, парней. Володька предложил мне работать, а значит, общаться с людьми, располагать их к себе, к товару. А какой сейчас из меня располагатель? Я сижу, сгорбившись, в углу и исподлобья зыркаю по сторонам, опасаясь встретиться глазами с попутчиками. Нет, это не дело. Сейчас распрямлюсь, улыбнусь открыто, что-нибудь сказану, как положено нескучному, симпатичному попутчику, а потом попрошу соседей приподняться и достану пакет с продуктами. Буду есть аппетитно, вкусно, чтоб у всех потекли слюнки… Н-ну-с!.. Только сперва схожу в тамбур, выкурю сигарету…
Потихоньку поезд выбирался из Абакана. Из довольно большого города, вблизи которого я прожил пять лет, но почти не узнал его, не изучил, не увидел, чем он отличается от других городов, где побывал я за свою жизнь. Да и отличается ли он чем-то?..
Помню, в школе я очень увлекался географией, правда, увлекался довольно странно: у меня был толстенный атлас мира, карты на сотнях страниц. Каждое государство, каждый островок в каждом из четырех океанов, каждый штат Индии, каждая область СССР были там представлены подробно, до последнего, может, уже и не существующего поселеньица. И вот в чем странность – разглядывая карты, читая названия городов, я и не старался представить, не осознавал, что вот этот кружок – Тура, – или этот – Благодарный, – состоят из домов, людей, мест отдыха, что в них есть нечто особенное, чем они не похожи на другие плоские кружочки на пятнистой, веселящей глаза, но тоже плоской, идеально плоской карте… Лишь несколько кружочков, несколько названий рождали в голове ассоциации, – я там бывал, кое-что увидел, запомнил, или узнал из книг, из фильмов, передач, рассказов родителей.
Красноярск – там на горе стоит часовня, древняя, кажется, построенная казаками-первопроходцами, и я пацаном все пытался рассмотреть сквозь забитые железными листами оконца, что внутри, – вдруг лежат кучей кривые сабли, пищали, расшитые золотой нитью кафтаны… А про Лондон я много читал. Особенно у Диккенса. Ядовитые туманы, лачуги с погребами-ловушками, куда спихивают трупы ограбленных; полчища нищих, самых опустившихся, самых грязных, голодных нищих на свете, и тут же – представители благопристойных британцев, самых чистых и чопорных, пунктуальнейших в мире людей… Москву я чуть ли не каждый день видел по телевизору, и все равно она не была живой, населенной, а казалась скорее огромным музеем. Музей – Красная площадь, музей – Третьяковская галерея, музей – Останкинская башня, музей – Елисеевский гастроном… Купаясь в Амуре под Благовещенском, мой отец хорошо видел купающихся у противоположного берега китайцев, которые что-то, наверняка оскорбительное, кричали ему (это было в конце шестидесятых) и даже кидались камнями… О Ленинграде мне много, с раннего детства, рассказывала мама. Она там побывала однажды, лет в двадцать, влюбилась в этот город и передала свою любовь мне. Под ее рассказы я гулял по Невскому, по набережным каналов, любовался Новой Голландией, замирал перед Рембрандтом и Гогеном в Эрмитаже, сидел в уютных кафе на Васильевском острове… Потом были книги, множество книг, где главным героем был Петербург-Петроград-Ленинград, и даже самые мрачные рисовали этот город для меня притягательно, таинственно, как-то родственно; я даже отвел для таких книг специальную полочку, составив в ряд Гоголя, Достоевского, Пушкина, Блока, Леонида Андреева, Ахматову, Андрея Белого, Горького, разные исторические труды, путеводители, стихотворные сборники вроде «Петербург в русской поэзии». К стенам моей комнаты были приколоты открытки с видами Летнего сада и Петергофа, репродукции картин, что висят в Русском музее и Эрмитаже… И после окончания школы я, конечно, уехал туда. Первый раз, и совсем, как получилось, ненадолго. Сейчас представился случай снова попробовать. Я на восемь лет старше, мне есть теперь к кому ехать, у кого искать поддержки, кто обещал дать мне работу. Может быть… да нет! – должно, должно получиться.