Исторический калейдоскоп
Abonelik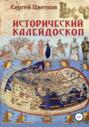


Sesli kitaba gidin
- Hacim: 310 sayfa.
- Tür: Dünya Tarihi, tarihi edebiyat, Rus tarihi
С каких пор мы читаем «про себя»?
Когда-то чтение было довольно шумным занятием. Ещё во II веке н. э. оно означало декламацию: читали всегда вслух.
Вот несколько отрывков из Лукиана Самосатского («Неучу, который покупал много книг»), которые удостоверяют это:
«2. Ты во все глаза глядишь на свои книги, просто, Зевсом клянусь, объедаешься ими, а некоторые даже читаешь, хоть и слишком торопливо, так что глаза все время опережают язык.
7. Ты не видишь, что то же самое, конечно, происходит и с тобой, когда ты держишь в руках прекраснейшую книгу, облечённую в пурпурную кожу, с золотой застёжкой, а читаешь её, позорно коверкая слова, так что люди образованные потешаются над тобой, состоящие же при тебе льстецы славословят, а про себя, отвернувшись, также смеются немало.
19. Димитрий-киник, будучи в Коринфе, увидел, как один невежественный человек читал прекраснейшую книгу, – а именно «Вакханки» Еврипида, – дойдя как раз до того места, когда вестник рассказывает о страданиях Пенфея и поступке, совершенном Агавой. Димитрий вырвал у него книгу и разорвал её, заявив: «Лучше Пенфею быть однажды растерзанным мной, чем тобой – многажды».
28. Но если ты все же решил пребывать неизменно в своём недуге, то иди, покупай книги, держи их дома под замком и пожинай лавры владельца. Довольно с тебя и этого. Но не прикасайся к ним никогда, не читай, не унижай своим языком слов, сказанных мужами древности, и их творений, которые тебе ничего плохого не сделали».
Учёные полагают, что чтение вслух помогало лучше вникать в смысл – так как в те времена не было общепринятых знаков пунктуации и даже разделения слов. Я думаю, к этому можно добавить, что поэзия, художественное слово вообще, издревле воздействовало прежде всего на слух – отсюда такое внимание древних к ритму и стилю как поэтической, так и прозаической речи.
По счастливой случайности, история сохранила то мгновение, с которого можно условно начать отсчёт процесса (вероятно, длительного) отказа от декламации и перехода к чтению «глазами», «про себя».
Святой Августин в молодости (до 364 г.) был учеником святого Амвросия, епископа Медиоланского. Когда, тридцать лет спустя, уже пожилым человеком, он писал свою «Исповедь», то перед его внутренним взором всё ещё стояло необычное зрелище:
«Когда Амвросий читал, он пробегал глазами по страницам, проникая в их душу, делая это в уме, не произнося ни слова и не шевеля губами. Много раз – ибо он никому не запрещал входить и не было обыкновения предупреждать его о чьём-то приходе – мы видели, как он читает молча, всегда только молча…»
Человек, молча склонившийся над книгой… Ученики недоумевали о таком поведении учителя и пытались найти ему объяснение:
«Немного постояв, мы уходили, полагая, что в этот краткий промежуток времени, когда он, освободившись от суматохи чужих дел, мог перевести дух, он не хочет, чтобы его отвлекали, и, возможно, опасается, что кто-нибудь, слушая его и заметив трудности в тексте, попросит объяснить тёмное место или вздумает с ним спорить, и тогда он не успеет прочитать столько томов, сколько хочет. Я полагаю, он читал таким образом, чтобы беречь голос, который у него часто пропадал. Во всяком случае, каково бы ни было намерение подобного человека, оно, без сомненья, было благим».
Последние слова св. Августина показывают, что на рубеже IV—V веков молчаливое чтение все ещё нуждалось не только в объяснении, но даже в оправдании.
Искусство читать про себя, пишет Борхес, который упоминает этот эпизод в одном из своих эссе, преобразило литературу, привело к господству письменного слова над устным, а читателя оставило наедине с автором.
Когда появились христиане?
Речь пойдёт о названии последователей Иисуса Христа его именем.
Первое время после Распятия последователи нового учения называли себя «верующими», «верными», «святыми», «братьями», «учениками», но официального и общепринятого названия для них не существовало. Иудеи называли их «назареями», вероятно потому, что Иисуса они обыкновенно называли «Han-nasri» или «Han-nosri» – «Назорей» (название «галилеяне» ещё более позднего происхождения; его пустил в свет император Юлиан Отступник, придав ему официальный характер и вместе с тем насмешливый и презрительный оттенок).
Так обстояли дела, когда в самом начале 40-х годов в Антиохию прибыл апостол Павел.
Антиохия, «столица Востока», была третьим по величине городом тогдашнего мира и центром христианства Северной Сирии. В ней насчитывалось, по разным оценкам, от 200 до 500 тысяч жителей. Здесь же находилась и резиденция римского наместника Сирии.
Антиохийская церковь была обязана своим возникновением нескольким верующим, родом из Кипра и Киринеи, которые много проповедовали в Антиохии как евреям, так и грекам (Деян. 11:19 и сл.). Распространению новых идей способствовало, быть может, землетрясение 23 марта 37 года, причинившее крупные повреждения городу. Всех так или иначе тянуло к сверхъестественному (весь город говорил о некоем шарлатане по имени Деворий, который уверял, что может не допустить повторения такого несчастья при помощи талисманов). Благодаря всему этому, проповедь христианства имела в Антиохии громадный успех.
По свидетельству «Деяний апостолов», именно в Антиохии народился термин: christianus – «христианин»: «Целый год собирались они (апостолы Павел и Варнава. – С. Ц.) в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деян. 11:26).
Согласно Э. Ренану («Апостолы», гл. XIII), латинское, а не греческое окончание этого слова, по-видимому, указывает на то, что название «христиане» было дано сектантам римскими властями как полицейская кличка, вроде того, как говорили тогда: herodiani, pompeioni, caesariani (геродиане, помпеяне, цезариане – названия политических партий и групп).
Во всяком случае, несомненно, что это название было придумано язычниками. Своим происхождением оно обязано недоразумению: давшие его предполагали, что Христос, Christus, – перевод еврейского слова Мессия, Maschiah, – имя собственное. Люди, мало осведомлённые с ходом еврейских и христианских идей, полагали даже, что Christus или Chrestus (Христос), глава секты, ещё жив (об этом пишет Светоний). Простонародное произношение этого слова было: chrestiani.
Сами последователи Иисуса приняли данное им название и стали считать его почётным: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пётр. 4:16); «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» (Иак. 2:7).
Святой Кассиан
–
учитель, замученный учениками
Учителя, насколько мне известно, не имеют своего небесного покровителя. И если кто-нибудь когда-нибудь захочет такового поискать, то я рекомендую обратить внимание на святого Кассиана из Имолы. Фигура символическая, жертвенная. Но жертва это особая.
Кассиан (ок. 240 года – 303 или 305 год) был епископом римской Имолы – терракотового городка в 40 км от Болоньи. В те времена поселение называли Форум Корнелия. Под названием Имола город впервые упомянут в VII столетии.
В начале V века Форум Корнелия посетил римский поэт Пруденций. Среди прочих христианских святынь и достопримечательностей он осмотрел и гробницу епископа Кассиана. Над гробницей было помещено изображение мученика, которого мальчики пронзали стилосами (заострённые стержни для письма на вощёных табличках). Сторож гробницы объяснил поэту, что Кассиан преподавал чтение и письмо в начальной школе (magister litterarum). Ученики не любили его за строгость и придирчивость. Когда начались преследования христиан, Кассиан отказался поклоняться языческим богам, был схвачен и приведён к судье, который отдал его для расправы ученикам, чтобы они отомстили наставнику за строгие наказания. Дети кололи мученика стилосами, пока он не истёк кровью.
Вдохновлённый этим рассказом, Пруденций увековечил мучения Кассиана в поэме из цикла «О венцах мучеников».
«Вся ненависть, – пишет Пруденций, – которую каждый накапливал втайне, вылилась теперь в безумную ярость. Одни царапают ему лицо и бьют по щекам тонкими дощечками для письма…
Другие колют его остриями палочек. Они разрывают, раздирают кожу и мясо служителя Христова. Две сотни рук одновременно ранят тело его, и из каждой раны льётся кровь. Ребёнок, лишь царапающий кожу, – палач более жестокий, нежели тот, кто пронзает глубоко, до самых внутренностей, ибо ранящий слегка знает, что, оттягивая смерть мученика, увеличивает его страдания. "Ты чего стонешь, учитель? – кричит один из учеников. – Ты же сам дал нам эти палочки с острыми железными концами, сам дал оружие нам в руки. Сегодня ты получаешь сполна за те тысячи букв, что писали мы, стоя в слезах перед тобою, под твою диктовку. Не сердись же за то, что мы пишем теперь на твоей коже: ты сам учил нас – стило должно постоянно быть в действии. Мы больше не просим отдыха, ты столько раз отказывал нам. Теперь мы практикуемся в каллиграфии на твоём теле. Ну-ка давай, исправь наши ошибки; накажи нас, если буквы выведены неаккуратно".
И так издевались дети над своим учителем, чья кровь лилась широким потоком, питаемым родниками пронзённых вен, жизненными соками внутренностей».
Пруденций кончает гимн, «воспевая хвалу Касьяну, обнимая его гробницу, согревая губами его алтарь…»
После исследования мощей Кассиана в 2003 году наиболее вероятной причиной смерти названы проникающие ранения головы, нанесённые острыми предметами разного диаметра (не менее 2 отверстий в черепе). По мнению экспертов, занесённая инфекция вызвала менингеальную реакцию, в результате чего Кассиан умер примерно через месяц9. В связи с полученными данными некоторые исследователи склоняются к признанию достоверности сведений, приведённых Пруденцием10.
30 сребреников по нынешнему курсу
(для начинающих христопродавцев)
Однажды на Страстной неделе некий проповедник оговорился и сказал, что Иуда продал Христа не за 30 сребреников, а за 40… Стоящий в народе купец наклонился к своему приятелю и промолвил:
– Это, стало быть, по нынешнему курсу…
Церковный анекдот XVIII века
Эта круглая сумма известна каждому. Она уже давно приобрела нарицательный смысл. Именно поэтому сегодня мало кто представляет ее реальную ценность в израильском обществе I века.
Однако, прежде всего следует оговориться, что настоящей суммы, за которую Иуда продал своего Учителя, мы никогда не узнаем. 30 сребреников вложены в руки Иуды лишь для того, чтобы задним числом оправдать ветхозаветное пророчество из Книги пророка Захарии (гл. 11: 11—13): «Тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, – высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника».
Не случайно, 30 сребреников в оплату предательства Иуды упоминаются только в Евангелии от Матфея (26:15): «И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его? Они предложили ему тридцать сребреников», в Евангелии от Марка (14:11), самом древнем из четырёх, конкретная сумма не указана: «Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники», в Евангелии от Луки (22:5) говорится только: «Они обрадовались и согласились дать ему денег», а в Евангелии от Иоанна вообще не сказано, что предательство оплачивалось.
Не секрет, что многие места евангельской биографии Иисуса целиком обусловлены соответствующими пророчествами из Ветхого Завета. В тексте Евангелий все эти места отмечены, и их смело можно относить к литературному вымыслу. Эпизод с 30 сребрениками – из их числа.
Но дело не в этом, а в том, чтобы понять, какие финансово-экономические ассоциации 30 сребреников вызывали у первых читателей Евангелий.
Сребреник, фигурируемый в Евангелиях, обыкновенно отождествляют с серебряным шекелем (сиклем, по-греч. – статир). В Библии слово кесеф (серебро, сребреник) употребляется иногда как синоним выражения «шекель серебром» (Быт. 37:28; Суд. 9:4; 17:4; II Сам. 18:11). Причём во времена Второго храма (конец VI в. до н. э. – 70 г. н. э.) в ходу был шекель, который фактически был полушекелем. Этот облегчённый «священный шекель» (весом в 13—14 г серебра) составлял ежегодный налог каждого еврея на Храм.
Таким образом, 30 сребреников равняются примерно 400 г серебра.
Что можно было купить в Иудее I века за эти деньги?
В Книге Исхода (глава 21:28—32) 30 сребреников – это штраф в пользу хозяина за раба или рабыню, которых насмерть забодал чужой вол (часто эту сумму неправильно трактуют как цену раба).
Шекель равнялся по весу четырём денариям или четырём драхмам. Греки называли шекель – «тетрадрахма».
30 сребреников, стало быть, были равны 120 денариям. Денарий платили в день солдату или наёмному работнику. Таким образом, речь может идти о тогдашней «средней заработной плате» за 4 месяца.
Иуда оценил благовония, потраченные Магдалиной на Иисуса, в 300 динариев. Это в 2,5 раза больше тридцати сребреников.
В Евангелии сказано также, что после самоубийства Иуды на полученные им деньги была куплена «земля горшечника» для погребений, т.е. некий участок глинистой земли (вроде дешёвого дачного участка в Подмосковье). Но эти сведения вызывают сомнения, поскольку опять же отсылают к пророчеству Иеремии: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оценённого, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Мф. 27:9—10).
Тем более, что у самого Иеремии приведены совсем другие цифры: «И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников» (Книга Иеремии, глава 32:9).
Ещё один важный момент состоит в том, что пророки Иеремия и Захария жили в эпоху Первого храма и, значит, их шекель не был равен евангельскому шекелю, чего евангелисты, конечно, не знали. Вес шекеля в более древние времена определялся по двум стандартам – вавилонскому и финикийскому, каждый из которых в свою очередь был двойной, лёгкий (обыкновенный) и тяжёлый («царский»). Вавилонский тяжёлый шекель был равен 22—23 г, лёгкий – 11—11,5 г, финикийский тяжёлый – 14,5—15,3 г, лёгкий – 7,3—7,7 г. Трудно сказать, какой из них имеется в виду в ветхозаветных пророчествах.
Во всяком случае, нужно помнить, что в пророчествах Ветхого Завета жизнь Сына Божия фактически оценивалась несколько иначе, чем во времена Иисуса, несмотря на формальное совпадение суммы: 30 сребреников в Ветхом и Новом Заветах – это разные деньги.
Приблизить 30 сребреников, инкриминируемых Иуде, к ценам наших дней можно двумя способами.
Во-первых, по стоимости серебра. В августе 2021 года цена 1 г серебра составляла около 60 руб. По этим расценкам Иуда расписался бы в получении 18 тысяч руб., как зажиточный российский пенсионер. За что наше правительство считает пенсионеров иудами, это другой вопрос.
При втором способе подсчёта следует ориентироваться на сравнительную стоимость труда (берём отрезок в 4 месяца). Средняя зарплата россиян в 2021 году (согласно Росстату) составляет примерно 50 тысяч руб. За 4 месяца получается 200 тысяч. Что ж, вероятно, за такую сумму и сегодня найдутся желающие запечатлеть поцелуй на щеке обречённой жертвы.
Рождение европейской лирики
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Анна Ахматова
Родоначальник европейской лирической поэзии Архилох родился на острове Паросе – одном из Кикладских островов в центре Эгейского моря. Время жизни Архилоха определяется лишь приблизительно. Позднейшие греческие учёные писали, что поэт жил в начале VII в. до н. э. Это подтверждается и тем, что в одном из его стихотворений упоминается полное солнечное затмение: «В полдень ночь пришла на землю». Затмение, о котором пишет Архилох, наблюдалось в Греции 6 апреля 648 года до н. э. В это время Архилох был ещё нестарым человеком, так как он участвовал в битве, которая прекратилась во время затмения. По происхождению он был незаконнорождённым – сыном рабыни и аристократа.
Лишённому наследства юноше не оставалось ничего другого, как завоевать счастье с мечом в руке. Он участвовал во многих военных экспедициях на суше и на море, рискуя жизнью за кусок хлеба и глоток вина. Нет сомнения в том, что Архилох умел сражаться. Но героя из себя не строил, и если для того, чтобы спасти жизнь, нужно было бросить щит, он его бросал:
Волей-неволей пришлось / бросить его мне в кустах.
Сам я кончины за то избежал. / И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть / новый могу я добыть.
Любовь и поэзия переплелись в его судьбе воедино. Архилох полюбил девушку из знатной семьи – красавицу Необулу. Ее отец Ликамб обещал отдать её Архилоху в жёны, но, когда пришёл срок выполнять обещание, Ликамб предложил поэту взять вместо Необулы её старшую некрасивую сестру. Это возмутило Архилоха, и он обрушил на Ликамба поток негодующих ямбов:
– Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб?
Кто разума лишил тебя?
Умён ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем…
Предание гласит, что злые насмешки Архилоха довели Ликамба и его дочь до самоубийства.
Но именно Архилох первый предал бумаге чувства, которые владеют всеми людьми. Разве любой из нас не знал этих мгновений:
От страсти обезжизневший,
Жалкий, лежу я, и волей богов несказанные муки
Насквозь пронзают / кости мне.
Разве каждый мужчина не помнит свою любимую в минуту, когда:
Своей прекрасной розе / с веткой миртовой
Она так радовалась. / Тенью волосы
На плечи ниспадали ей / и на спину.
И есть ли такие, кто в пору утрат не думал, как и Архилох:
Я ничего не поправлю слезами, / а хуже не будет,
Если не стану бежать / сладких пиров и утех.
Однако всякий подлинный поэт – избранник, немыслимый без внутреннего благородства. Архилох первым в европейской литературе рассказал басню о волке, не пожелавшем носить ошейник, оставивший на шее собаки позорный след. Чтобы заживить такой рубец, говорит Архилох, есть прекрасное лекарство. И лекарство это – свобода!
Но вот только все ли готовы лечить им свои рубцы на шее и в душе?
Архилоху приписывали изобретение многих новых стихотворных размеров11, в том числе шестистопного ямба, впоследствии господствующего размера в греческой и римской драме. Архилох также создал эпод – двустрочную метрическую систему, в которой за большим стихом следует меньший.
Благодаря Архилоху элегии и ямбы, трохеи и стихотворные басни превратились в излюбленные поэтические формы, которыми уже больше двух с половиной тысячелетий широко пользуются поэты различных народов и эпох.
Древние считали Архилоха мудрейшим и прекраснейшим из поэтов и сравнивали с самим Гомером. На родине Архилох почитался как герой. В начале V века до н. э. в честь Архилоха на Паросе было воздвигнуто святилище, где на каменных плитах были высечены надписи с биографическими сведениями и отрывки стихотворений. Паросский историк Демей написал биографию Архилоха, извлечение из которой сохранилось на постаменте статуи, поставленной поэту в 100 году до н. э. его земляком Сосфеем.
Архилох погиб в битве с врагами родного острова. Знаменитый поэт Феокрит посвятил ему эпиграмму, написанную одним из изобретённых Архилохом сложных поэтических размеров:
Стань и свой взгляд обрати к Архилоху ты: он певец старинный,
Слагал он ямбы в стих, и слава пронеслась от стран зари до стран, где тьма ночная…
Музы любили его и делийский сам Феб любил владыка.
Умел с тончайшим он искусством подбирать слова к стиху и петь его под лиру.
Прислушаемся и мы к завету поэта:
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады – твёрдо стой, не трепещи.
Победишь – своей победы напоказ не выставляй,
Победят – не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
Сафо, или Десятая муза
Женщины Лесбоса действительно были подвержены
этой страсти, но Сафо нашла её уже в обычаях и
нравах своей страны, а вовсе не изобрела сама.
Лукиан, «Диалоги»
Девять на свете есть муз, утверждают иные. Неверно:
Вот и десятая к ним, Лесбоса дочерь, Сафо!
Платон
«Загадка», «чудо» – говорили о Сафо уже древние. Эти слова лучше всего подходят как к личности «десятой греческой музы», так и к её поэзии.
«Страстная» Сафо, как называли её современники, родилась на острове Лесбос в городе Эросе, за 612 лет до н. э. Отца её звали Скамандронимом, мать – Клеидой. Подлинное эолийское имя Сафо – Псапфа («ясная», «светлая»).
Когда Сафо исполнилось шесть лет, она осталась круглой сиротой. В 595 году до н. э. юная девушка участвовала в восстании против тирана Питтакия и была вынуждена бежать на остров Сицилия. Она поселилась в Митиленах, почему впоследствии её и стали называть Сафо Митиленской, в отличие от другой Сафо – Эресской, обыкновенной куртизанки, жившей гораздо позднее знаменитой поэтессы.
Сафо вышла замуж за преуспевающего купца по имени Серколас, от которого родила дочь по имени Клеис.
По свидетельству современников, Сафо была небольшого роста, очень смуглая, но с живыми блестящими глазами, а если Сократ и называл её «прекраснейшей», то исключительно за красоту стиха.
По возвращении Сафо из Сицилии между ней и «ненавистником тиранов», поэтом Алкеем, её собратом по изгнанию, завязался роман. Поэт заявил Сафо, что хотел бы признаться ей в любви, но не решается: «Сказал бы, но стыжусь». На что Сафо отвечала: «Когда бы то, что высказать ты хочешь, прилично было, стыд навряд ли смутил тебя».
Сафо возглавляла в Митилене на острове Лесбос общину девушек, посвящённую Афродите. Она называла свой дом «домом служительниц муз», или «музеем». Иными словами, заведение Сафо было школой, отданной под покровительство женских божеств любви, красоты и культуры.
Школа эта носила характер религиозной общины, в которой вдохновляемая Афродитой Сафо обучала митиленских девушек умению быть женщинами. В кружке Сафо культивировались музыка, танцы и поэзия. Но искусствам обучались не ради них самих, а для того, чтобы посредством культа муз воплотить идеал женской красоты. Сафо сама была замужем и являлась матерью девочки, которую она сравнивает в стихах с букетом лютиков. Поэтому она готовила доверенных ей девиц именно к замужеству, к выполнению женщиной своего призвания в радости и красоте. Поэтическая культура, которую Сафо прививала им своими пылающими строфами, распеваемыми девушками хором, называлась у древних «эротикой» и была культурой любви.
О том, какую горячую дружбу порождало такое воспитание под огненным небом, где царила Киприда, какие отношения могли возникнуть между Сафо и её воспитанницами, – об этом говорят нам её стихи:
Лишь тебя увижу, – уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, / под кожей
Быстро лёгкий жар пробегает, / смотрят,
Ничего не видя, глаза, / в ушах же
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, / дрожью
Члены все охвачены, / и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Впоследствии эту любовь назовут лесбийской, хотя Сафо ни одной строчкой не дала понять, что её возлюбленная разделила с ней мучительную страсть.
Полагают, что Сафо умерла около 572 года до н. э., покончив жизнь самоубийством. По легенде она будто бы страстно влюбилась в молодого грека Фаона, перевозившего пассажиров с Лесбоса или Хиоса на противоположный азиатский берег, но, не найдя взаимности, бросилась с Левкадской скалы в море. С тех пор, согласно местному поверью, тот, кто страдал от безумной любви, находил на Левкаде забвение.
Bu ve 399 TRY karşılığında 2 kitap daha