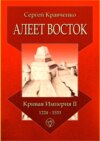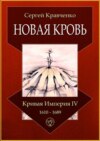Kitabı oku: «Вторая попытка. Кривая империя – V. 1689—1761», sayfa 2
За 4 месяца на Ост-Индской верфи Петр поучаствовал в полном цикле постройки собственного корабля.
После Голландии – Англия. Здесь тоже 3 месяца работы на верфи и безуспешная вербовка мастеров в Россию.
Голландская и английская задачи посольства в дипломатическом смысле провалились – никто не захотел воевать ради Христа с Турцией и Францией.
16 июня 1698 года посольство торжественно въехало в Вену.
Здесь столь же безуспешно позанимались дипломатией, но зато удачно посетили Баден, осмотрели достопримечательности, и совсем уже разнежились съездить в Венецию, когда из отечества милого пришла обыкновенная русская новость: стрельцы маршем идут на Москву! Пришлось царю срываться с венского стула в антракте Венской оперы.
Казнь Стрелецкая
Что на сей раз не понравилось защитникам отечества?
Малые обиды были таковы.
Никак не шла из сна и памяти свинская казнь однополчан над гробом Милославского.
Детской слезой, – мы все страдали ею в наших играх, – душила досада на царя, который в потешных боях всегда назначал «русскими» своих кукуйских придурков, а «немцами» – исконно русских стрельцов. И потом «русские» Гордон и Лефорт нещадно лупили неповоротливых «немцев» в красных патриотических кафтанах.
К тому же стало доподлинно известно, – все так говорили, – что ненормальный государь заделался невозвращенцем – не желает покидать пуховые немецкие перины и согласен жить у немцев хоть простым бюргером.
Но эти малые обиды не шли в версту с великой обидой стрелецкой. Корни этой обиды обнаружить легко, они просторно разлеглись на московских просторах.
Стрельцы, в нашем нынешнем понимании, армией не были. Они не жили в казарме, не поддерживали режимов быстрого развертывания и часовой готовности, в поход собирались не по тревоге, а по осеннему указу государя о нескорой весенней кампании. Так что, хватало у них времени неспеша обдумать за чаркой зелена вина особенности национальной военной доктрины и обсудить вред колдовства при караульной службе в рождественскую ночь.
Еще у каждого стрельца в Москве был собственный домик-дворик-огородик, малинка, капустка, огурчики, погребок, самогонный аппаратик, сарайчик и хлев с тягловой, верховой, дойной и мясной скотинкой. Баба, еще конечно имелась, чтобы вести все это хозяйство и лелеять хозяина, когда он после тяжких маневров нечаянно попадал не в спальню, а в хлев. Сама служба стрелецкая в последние годы, если не считать бескровных, но мозольных походов царя Алексея Тишайшего да регента Васьки, тоже была не пыльной. В чем она состояла?
А вот, идешь ты красный молодец в красном кафтане весенним вечерком по Красной площади, и рожа у тебя тоже красная и довольная. А красны девки с Лобной панели на тебя не налюбуются, прямо сохнут и мокнут на месте. А ты прёшь именно в Спасские ворота, и караульные братки останавливают тебя лишь для обмена анекдотами. Вот это жизнь!
Но вот, дёрганый царь Петрушка гонит тебя брать Азов. И казачки местные этот Азов тебе берут, но мусор басурманский из поганой твердыни выгребать гордятся. И приходится тебе, кремлевскому гвардейцу, как последнему стройбатовскому узбеку, махать лопатой и метлой…
Тут, к счастью, трубят сбор. Ты запихиваешь в сидор турецкие побрякушки для жены и шали для подруг, и – ша-агом марш! Но куда? Куда-то мимо Москвы, в самое болото, на западную границу – стеречь польскую избирательную интригу. Тоскливо становится!
От этой тоски полторы сотни стрельцов снимаются в самоход. Идут в Москву, бьют челом главкому Троекурову, чтоб он их вернул, куда следует. Троекуров орет, плюётся, и выборные «лучшие» ходоки оказываются в Сибири, – кто жив остался. Остальные в ужасе и губной помаде бегут пожалиться мамке – государыне Софье Алексевне. Конечно, в Новодевичий монастырь их охрана не пускает. Тогда отчаянные идальго прокапывают дли-и-нный подземный ход, и темной ночью проламывают дощатый пол точно в центре скромной кельи затворницы Софии. Тут шум, гам, кто вы в потемках будете? – ой, спаси Пречистая дева! – да убери ты лапы! Но свечка разгорается, Соня узнает своих, жалуется, что жизнь столичная трудна и опасна, что бояре хотят удушить царевича Алексея Петровича, и может, оно бы и к лучшему вышло. Софья пишет стрельцам грамотку, что пора ополчаться и проч.
Бояре про эти новодевичьи страдания узнают и поступают с невиданной жестокостью. Приговаривают они стрельцов с женами и детьми к жуткой казни. Вот догадайтесь с трех раз на спор, к какой.
Итак, вы сразу предлагаете вавилонскую казнь. Были в XX веке, – правда не нашей эры, – в городе Вавилоне такие мастера модного платья, которые ставили голенького ответчика вертикально, делали ему по линии воротника и кокетки тоненький надрез, а потом осторожно спускали с клиента всю кожу, как штаны или скафандр. Сосуды основные, мышцы, нервы напряженные – всё это оставалось в сохранности, так что раздетый клиент мог еще какое-то время жить и прохлаждаться в анатомическом неглиже. Кожа шла на чучела Homo Sapiens для гостиных, на кошельки и сумочки. Эту казнь вы удачно вспомнили, но не угадали.
Вторая ваша версия – по петровской выдумке, с выволакиванием женщин и детей свиными упряжками к Лобному месту, на смех тамошним девкам и для окропления отеческих гробов – тоже хороша, но не та.
Тут вы начинаете метаться, вспоминать казнь новгородскую, пожар московский, и я прекращаю опрос. Не поняли вы задания. Эти ваши казни для матерого москвича – семечки. Достать его, опустить ниже нар можно только одним способом. Сейчас изобразим, каким.
Вот, например, московский ОМОН выезжает на юг. И думает, что купаться. Но там – пиф-паф, ой-ё-ёй! Плохо стреляете, товарищи менты! За это мы вас, уцелевших, выдергиваем из Садового кольца и поселяем пожизненно среди недорезанной бараньей республики. И приходится вам суетливо уворачиваться от злобных кунаков и абреков, жены ваши беленькие с риском для личной жизни ходят за водой на самое дно Аргунского ущелья, а детишки вынуждены изучать азы и буки в компании местных волчат, склонных к занятию вахабизмом. Вот это казнь! И называется она – «лишение московской прописки».
Такой приговор боярский как раз и прозвучал. Должны были стрельцы-самовольщики числом 155 человек борзым ходом отправляться на пылающую Украину и дохнуть там пожизненно и безвыездно, с семьями, но без коммунальных удобств и продвижения по службе. Как тут не забунтовать?
Пока Петр добирался из Вены, отряды потешного «короля» Ромодановского, временно правившего страной, гоняли стрелецких беглецов по всему Подмосковью, а те норовили пробраться-таки в Москву и там залечь. Приговоренных к откомандированию ловили, вытаскивали из полковых обозов, но прочая стрелецкая масса их отбивала обратно. Постепенно назревала битва. Наконец произошла пушечная перестрелка и малая рукопашная стычка. Петровская армия потеряла одного солдата убитым и трех – ранеными. Стрельцов полегло более полусотни. Многих король Ромодановский перехватал, пытал, повесил вдоль дорог.
25 августа приехал Петр. К жене во дворец не явился, встретился с девицей Монс, погулял у Лефорта, переночевал в Преображенском. А на другое утро решил государь поднести москвичам иноземный гостинец. Это было впервые завезенное на Русь просвещенным государем и по сей день любимое нами иностранное слово «террор»!
26 августа Петр рассмотрел материалы Третьего стрелецкого бунта. Подшитая в дело стрелецкая челобитная, задевавшая немцев, «последующих брадобритию», подала царю забавную идею. Петр был только что из бритой Европы, к тому же в народе еще не забылся вопль сжигаемого протопопа Аввакума, обличавшего любителей стильного «блудоносного образа». И решил Петр всех побрить, постричь и поодеколонить. Тут же, в Преображенском, ласково разговаривая с вельможами, успевшими на царский прием, Петр бережно обрезал им бороды. Начал с Ромодановского и Шеина, обслужил всех, не тронул только самых старых доходяг, которые могли от стыда и помереть. 1 сентября, за новогодним столом тех, кто не понял службы, добривал уже царский шут – уж не пушкинский ли прадедушка, арапчонок Ганнибал? Он выныривал, как чертёнок из табакерки, из под ног и юбок, и ухватя боярина за бороду, одним махом приводил его в маскарадный вид. Для упорных бородачей позже был придуман специальный налог.
Чтоб народ не расслаблялся да не начал скулить о бороде и длинных платьях, с половины сентября к Москве стали свозить пойманных стрельцов. Всего их было 1700. 17 сентября, в 16-летнюю годовщину казни Хованских неспеша начались какие-то особо жуткие пытки. «С третьего огня» узналось, наконец, о революционном письме Софьи. Петр лично допросил сестёр. Софья уперлась, зато Марфа созналась.
И начались приготовления к рисованию с натуры картины Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни».
Этим утром – 30 сентября 1698 года – опять мы прозевали 300-летний юбилей, туды его в Лобное место! – стрельцов повезли из Преображенского к Покровским воротам Кремля. Этих приговоренных было 201. Их попарно рассадили в телеги. Каждый держал в руках горящую свечку. Я так думаю, язычок свечки должен был символизировать трепетный, легко угасимый огонек человеческой жизни. Ехали медленно, а жизнь человеческая сгорает быстро, поэтому какие-то, не замеченные на картине хозяйственники, должны были иметь свечной запас и вовремя освежать его в коченеющих ладонях смертников. Для пущего ужаса к стотележечной процессии были допущены близкие родственники. Толпы жен и детей (жен было, ну, пусть 150, плюс матери, плюс подруги, плюс дети – от двух до десяти душ на свечку, – получается уж точно больше тысячи) в диком вопле окружали телеги.
У Покровских ворот был зачитан обвинительный акт, и стрельцов группами развезли к многочисленным местам казни. Тут обнаружилась недостача пяти приговоренных. Сначала растерялись, забегали, но потом вспомнили, что пять голов любознательный основатель Кунст-камеры отрубил лично, еще в Преображенском.
Написать картину группового садизма в один день у художника не вышло. Поэтому последовали почти ежедневные сеансы работы с натурой:
11 октября – 144 человека;
12 – 205;
13 – 141;
17 – 109;
18 – 63;
19 – 106;
21 – 2.
Итого получается 971 человек без учета повешенных Ромодановским до суда.
Петр, как мы знаем, никогда не оставался в стороне от дел народных. И не любил, когда приближенные отлынивают от изучения итальянского или рубки кораблей. Поэтому 17 октября он устроил им домашнее занятие в Преображенском. Князь Ромодановский справился на «хорошо» – отсек 4 головы; новый фаворит Алексашка Меншиков срубил сразу четыре «пятерки» – 20 стрельцов! Борис Голицын заслужил «единицу». Он так вяло кромсал шею единственному пациенту, что тот Христом богом взмолился прекратить безобразие. Отличник Меншиков метко выполнил приказ, – пристрелил стрельца из фузеи. Лефорт и Блюмберг от экзамена увильнули по уважительной причине, – у них были заграничные справки о невозможности дворянину заниматься такими гадостями.
Петр наблюдал работу своих учеников из седла и очень сердился, если кто-нибудь, вызванный к эшафотной доске, «принимался за дело трепетными руками». Стрельцов не только рубили и вешали, им на колесе ломали руки, ноги, спины. Парализованных, но живых стрельцов прямо на колесах выставляли в рядок под кремлевской стеной на Красной площади. Вы знаете это место, там и сейчас покойников полно.
Полковые попы из мятежных частей тоже пострадали. Одного повесили, у другого отрубили и насадили на кол голову, тело положили на колесо.
Все были довольны, но хотелось как-то приобщить к прекрасному и главную ценительницу стрелецкого искусства – царевну Софью. Эта затворница никак не хотела посещать массовых мероприятий, прикрывалась монастырским распорядком. Тогда Петр устроил ей выездное представление, удовольствие с доставкой на дом. Он приказал повесить 195 стрельцов на деревьях вокруг Новодевичьего. Трёх крупных мужиков бесстыдно разместили прямо против окон девы Софии. А чтоб ей был понятен смысл спектакля, в руки мужикам вставили её собственноручные письма и ответные признания повешенных. Театральный сезон – это вам не двухдневный кинопрокат, – трупы провисели за окнами пять месяцев и пользовались у монастырских ворон непреходящим успехом. Полгода простояли на Красной площади колеса с останками стрелецкой массовки.
Хотелось Петру и саму Софью вызвать на сцену. Он созвал особый собор, чтобы вынести ей соответствующий приговор, но попы ни на что кроме пострижения не осмелились.
Постригаемым и прочим, приобщающимся к Богу (например, отцу царской невесты), у нас меняют имена. И есть такое правило: новое, незапятнанное имя должно начинаться с той же буквы, что и грешное. Это для того, чтобы Бог хоть как-то мог связать концы с концами на заседании Страшного суда. Вы же не забыли еще, что Владимир Мономах, например, звался во Христе Василием, а Борис Годунов – Боголепом? Ну, вот. Софью постригли на месте преступления, в Новодевичьем, под издевательским именем Сусанна. Я сочинил тут гипотезу, что имя это должно было напоминать незамужней и вечно озабоченной «мужеской деве» дикие сцены изнасилования библейской девицы стариками-разбойниками, так похожими на отставных стрельцов. Сестра Марфа упокоилась в монастыре бывшей столичной Александровской слободы под многозначительным для нас именем – Маргарита.
На этом наш московско-сибирский цирюльник не успокоился и постриг жену свою, Евдокию Федоровну. Очень уж она мешала правильно управлять государством. К тому же Евдокия проиграла схватку за доступ к царскому телу дочке кукуйского водочника Анне Монс. Основная причина проигрыша была столь деликатной, что Историк потратил на ее передачу целую страницу академических выражений. И всё равно, нормальному читателю ничего не разъяснил. Так что, вам не обойтись без моей расшифровки, которая далась чуть легче, чем чтение египетских пиктограмм, но гораздо сложнее перевода древнерусских летописей или «Слова о полку…». Вот как вкратце выглядит окончательный диагноз.
Когда царь Петр Алексеевич входил после многомесячной отлучки в спальню к государыне Евдокии Федоровне, она начинала ходить вокруг да около, выспрашивать, по-здорову ли плавали, лапушка мой Петр Алексеич, да не застудили ли ножки, да не желаете ли чего…, пряников печатных, кашки манной? Да не прочесть ли вам на ночь акафист или канон покаянный от нечаянного греха? Такая волынка продолжалась до полного нутряного и наружного опущения. Поэтому царь скучал-зевал-засыпал, а утром в досаде собирался в новый поход, подальше от этих «лапушек», «ясных соколов» и прочей древнерусской целомудренной литературы…
А вот, шкипер Питер входит морской, косолапой походкой в заведение папаши Монса, дымит трубкой, подает абордажные команды, типа «свистать всех баб наверх и сверху!». На боцманский свисток из трюма выскакивает по-европейски красивая madchen Anne. Она с трудом удерживает невинное лицо юнги, подносит моряку штоф сорокоградусной, грудью нечаянно задевает его за медаль, форштевнем натыкается на ручку кортика. Тут же превращается в золоченую русалку, спрыгивает с корабельного носа и тащит грешного Питера в свое подводное царство. Там, бесстыдно оголяясь и утробно завывая, Анна булькает что-то возбуждающее по-немецки и валит порфироносного капитана в бушующую постель. Всё тонет в углеводородном тумане. Звучит виртуозная и задушевная музыка Лея-Леграна. Об исполнительской технике самой Анны я уж и не говорю…
Почувствовали разницу? То-то!
Итак, семейные дела уладились. Государство очистилось. Окружение сформировалось. Ослепительной, яркой звездой в этом окружении засверкал диамант Александра Даниловича Меншикова. Меншиков достоин отдельного лирического отступления, ибо был он первым «новым русским».
Папа Меншикова служил придворным конюхом, почему и попал при потешной мобилизации в капралы Преображенского полка. Так что, когда много лет спустя царь жаловал Алексашке титул светлейшего князя, то честно записал в грамоте, что родитель героя служил в гвардии. Был Меншиков высок и хорош собой, совершенно сбивал с толку окрестных немцев непривычной вежливостью, изысканностью, чистотой, умением культурно кушать и цензурно выражаться. Еще он превосходно владел построением сложных фраз, умел легко договориться со всеми и обо всем. Но и лучших природных свойств Меншиков не растерял. Был он невероятно жесток, безмерно, по-скотски честолюбив, жаден и вороват, уместно истеричен. Он был лишь немного уМеньшенной копией своего повелителя.
Осенью 1698 года после всех заграниц, казней, пострижений и буйств почувствовалась некая пауза. Это нашего государя стала покалывать в ребро спящая летаргическим сном Империя. Царь пребывал в расстройстве. Сейчас он вдруг понял, какой огромный камень хочет сдвинуть с привычного места. Ему стало страшно. Он в кровь избил Шеина, Лефорта, Меншикова – за сморкание при дамах, за танцы при шпаге, за продажу налево офицерских патентов, еще за какую-то ерунду. Его душило отчаянье. В глазах стояло видение культурной, богатой, чистой Европы. Потом эта Европа сбрасывала платье и плясала канкан, потом оказывалась Анной Монс, потом одевалась и снова становилась непорочной Пречистой богородицей. Потом врач пускал царю дурную кровь, и она черными кляксами била в гонг медного тазика. И всё успокаивалось, но ничего не решалось.
Как упросить этот скотский народ работать и учиться? Какой еще казнью отучить его от зависти и воровства? Какой пыткой вырвать у него признание в тайных помыслах, мечтаниях, стремлениях?
– Эх, Питер, Питер! – вздыхала сверху непорочная Анна Монс, поправляя нимб, – просить нельзя, нужно насиловать, прямо драть безбожно!
– Отучить русского от воровства и зависти невозможно, ибо неразрешима сия наука уж восемьсот тридцать шесть годков, – вторила ей из винного трюма портовая шлюха Машка – еврейка назаретская.
– Нету у него никаких нормальных помыслов, реальных планов и стремлений, а так – маниловщина одна, – подхватывала чистенькая Европа, смахивая пену от шампуня и грациозно изгибаясь между рогами водоплавающего быка.
Не было ответа на чисто русские вопросы у евро-европейских дев. Хорошо хоть в бредовых снах, нет-нет, да и являлись царю простые русские мужики – блудливый Владимир Святой, хромой Ярослав Мудрый, грозный Иван Горбатый, безумный Иван Грозный. Они-то и напоминали ему неписанные имперские законы и правила, затерявшиеся в чертежах всех этих гюйс-бом-брамс-бикс-брашпилей.
Рассмотрел Петр имперское наследие и понял: всё есть!
Есть огромная страна. Есть природные ресурсы. Есть эластичный народ. Есть покорная, безудержная партия негодяев. Есть у этой партии буйный вождь, – вон он дико косится из венецианского зеркала. Есть у вождя целая армия подручных нового типа. Есть управляемая церковь. Нужно только рубить, не уставая, – головы, корабли, окна в Европу. Нужно только раздвигать пределы безразмерного отечества. Нужно сплачивать, казнить и миловать подручных, вязать их кровавой круговой порукой и свальными оргиями. И воевать до последней капли дурной крови, трудиться до последней тягловой жилы, чтобы на вопли о пощаде, еде и отдыхе сил уже не оставалось. Вот такое решение. С тем и просыпались.
Спросонья снова вешали и рубили стрельцов, привезенных из-под Азова, устраивали маскарады, колядки, гулянки. Потом расследовали ропот народный, топили ведьм, жгли колдунов, распускали остатки стрелецких полков, изгоняли заевшихся военных со службы с волчьим билетом и высылали из Москвы вон.
Новый отсчет
С 1 января 1700 года ввели новое летоисчисление – от рождества Христова. Поэтому сразу началась новая эпоха – эпоха русско-шведских войн.
Швеция была в интересном положении. Она, по мнению Историка, приобрела в Европе вес и авторитет, непропорциональные ее экономическому могуществу. Это объяснялось двумя обстоятельствами.
– Шведы в течение многих лет вели принципиальную политику, чурались двуличия, уважали собственные законы.
– Шведский король Карл XI применил на практике одно из золотых правил нашей имперской теории. Он воспользовался конституционной ситуацией, захватил право казнить, миловать и конфисковать самодержавно, и успешно обобрал до нитки свое дворянство. Дворяне стали по стойке смирно, чтоб хоть головы сберечь.
Но в обиженной рыцарской среде сыскался самый обиженный рыцарь – Иоганн Паткуль. Он восстал, был приговорен к смерти, бежал, стал являться к европейским дворам и подбивать поляков, немцев и прочих на разгром и растерзание родной страны. Типичный случай измены Родине в корыстных целях. Поляки и датчане клюнули. Глава польской католической церкви кардинал-примас Радзеевский за взятку в 100000 рейхсталлеров пролоббировал в сейме вопрос о войне. Панове поверили в возможность получения навеки Лифляндии с Ригой. Для ускорения победы решено было использовать диких русских. Им отводилась роль правого фланга и отвлекающего войска. Русские должны были дойти только до Нарвы, там пошуметь, пострелять, и – лучше всего – быть битыми по неопытности, чтобы, не дай бог, не добраться до Эстляндии и Лифляндии. Условием принятия России в союз было честное царское слово: шведских городов не жечь, не грабить, мирных европейцев не казнить, не насиловать, не обижать. В общем, вежливо здороваться с побежденными по-немецки. Паткуль и польский генерал Карлович приехали в Москву уговаривать царя. Вот какие Нью-Васюки они ему нарисовали.
– Вы, ваше величество, легко возьмете прибрежные шведские крепости, выйдете на берег Балтики, приобретете «средство войти в ближайшие сношения с важнейшими государствами христианского мира», построите здесь «страшный флот», захватите монополию торговли востока с западом. Русский флот станет третьей силой, наряду с английским и французским. Храбрый и прославленный в боях молодой русский царь – вы, ваше величество, – просияет примером для всей просвещенной Европы, а там, – и для всего мира! Франция и Англия подожмут свои петушиные и львиные хвосты…
Тут в голове Петра закружилось, зазвенело, поплыло, и он, конечно, согласился.
В начале 1700 года польские войска вошли в Ливонию, взяли мелкие городки и замерли у Риги. Союзные датчане захватили Голштинию. Наши, как и было условлено, дождались заключения мира с Турцией, и 19 августа со спокойной спиной начали кампанию.
В Швеции только что сел править Карл XII. Он был на 10 лет моложе Петра, – ему на днях стукнуло 18, – и он еще не отстал от детских забав с погромами в церквях, охотой на зайцев в парламенте, рубкой баранов прямо в королевском дворце. Посреди игр 13 апреля 1700 года Карла известили о войне. Он сказал сестрам и бабушке, что уезжает в «увеселительный дворец Кунгсер», и поехал в другую сторону – навсегда. Карл неожиданно переплыл Зундский пролив и с 15000 пехоты осадил Копенгаген. Датчане сразу сдались.
Петр выступил к Нарве, несмотря на попытки польского и датского послов удержать его от решительных действий. Хитрецы хотели отвлечь Карла от своих войск, дать ему время на переброску к русским рубежам. Провокатор Паткуль просто сердцем извелся наблюдая в Москве решительность царя. 23 сентября русские стали под Нарвой. Их было до 40 тысяч, они изголодались и измучились в дороге. Только 20 октября начался обстрел Нарвы, но пушки оказались негодными. Почти сразу кончились ядра и заряды. Стали ждать подвоза боеприпасов. 17 ноября Петр узнал о приближении Карла и уехал из армии. 19 ноября вместо русских обозов с провиантом и порохом у нашего лагеря появились шведские полки. 8500 шведов, горячей иголкой вонзились в замерзающую, голодную толпу русских. Наши в ужасе закричали: «Немцы изменили!», – имея в виду иностранных наемных офицеров. Началась паника, давка, бегство. 1000 кавалеристов Шереметева просто утонули в Нарове. Русские стали срывать злость на командирах, их били и рубили. Король Карл увяз на лошади в болоте, потом вторую лошадь под ним застрелили. Он рассмеялся и пошел в палатку просушиться. Это спасло два потешных полка, Семеновский и Преображенский, которые одни не побежали и смогли продержаться до темноты. Утром Карл разрешил «храбрым русским» отступить с оружием в руках. Для почетного отступления шведы сами быстро построили мост. В плену остались только 79 «знатных русских», в том числе 10 генералов. Карл расквитался за ярла Биргера.
Такое блестящее вступление во взрослую жизнь не осталось незамеченным в Европе. Таланты Карла были вознесены до небес европейскими поэтами, измаявшимися на мелкотемье. Столицы захлестнула «карломания». В моду вошли памятные медали, на лицевой стороне которых штамповался увенчанный профиль Карла с латинскими восхвалениями, типа: «superant superata fidem» – «невероятно, но факт!». На обратных сторонах печатали Петра – дурачком: «Изшед вон, плакася горько».
Карл возгордился неимоверно. Он потерял здравый смысл, чувство реальности и собирался, как потеплеет, прогуляться до Москвы.
Петр, напротив, ощетинился, погнал своих генералов укреплять Новгород и Псков, стал вешать чиновников за 5-рублевую взятку, ломать церкви на стройматериал, колокола переплавлять в пушки.
Провинившийся под Нарвой Шереметев разбил в январе 1701 года передовой шведский отряд Шлиппенбаха и обеспечил передышку на несколько месяцев. За это время было отлито более 300 отличных орудий. Эти пушки делали, в основном, два мастера – немец и русский. Еще три русских литейщика подключались изредка – по мере выхода из запоя.
Тем временем Карл напал на окрестности Риги и «в пух» разбил польско-саксонскую армию. Медалей в ювелирных лавках прибавилось.
Тут случилась воистину первая морская победа Петра. В июне 1701 года 7 шведских кораблей под голландскими и английскими флагами пытались высадить десант в Архангельске, но были перехвачены, биты, и убрались восвояси, оставив два корабля на мели. Петр был страшно рад нечаянному приобретению.
В конце года Шереметев напал на шведов в Ливонии и перебил 3000 человек, положил 1000 наших. Получил за это орден Андрея Первозванного, царский портрет в бриллиантах, звание генерал- фельдмаршала. В апреле 1703 года герой продолжил свои рейды и вышел к устью Невы. Сюда приехал и сам царь. 1 мая был взят Ниеншанц, замыкавший устье. 5 мая два шведских корабля пытались исправить положение, но были атакованы и взяты Петром и Меншиковым с двумя гвардейскими полками в 30 лодках. Была безмерная радость, пили тоже без меры. 10 пьяных дней завершились скорбным облегчением на весеннем невском ветерке. Здесь Петру нашептали, что в IX веке «устьем Невы начался великий путь из варяг в греки», что и ныне «отверзошася пространная порта бесчисленных вам прибытков». Поэтому немедля по протрезвлению – 16 мая 1703 года (хоть бы этот 300-летний юбилей не прозевать!) – на одном из островов застучал топор дровосека. Рубили деревянный городок Питербурх, столицу еще одной Российской империи.
Одновременно рубили гигантские сосны для кораблей балтийского флота и били мелкие шведские отряды, бродившие неподалеку. К осени из невского устья ушел шведский флот, карауливший всю навигацию, и к поселенцам приплыл первый купеческий корабль с солью и вином.
Мирное городское и морское строительство оберегалось активными разрушительными действиями сухопутных сил. Петр напустил на шведов всю свою орду: казаков, башкир, татар, калмыков. Понятно, что вскоре Ингрия, Эстляндия, Ливония украсились грудами головешек на месте красивейших древних городов. Борис Петрович Шереметев пригнал к царю «вдвое против прошлогоднего» крупного рогатого скота и лошадей. Мелкий скот, «чухонцев» – рабов, необходимых для строительства новой столицы, славный фельдмаршал добыл, да не довел, истратил по дороге. Небось пытались без команды выполнить фигуру «шаг вправо – шаг влево».
Немудрено было побеждать, когда Карл XII «увяз в Польше». Он там занял Варшаву, собирал дань, куражился по-детски. Охота ему было посадить в Польше своего короля. Вот он и выбрал Станислава Лещинского взамен нашего Августа Саксонского.
Весной 1704 года началась новая кампания. Наши захватили 13 шведских судов, пробиравшихся с десантом в Чудское озеро, летом осадили Дерпт. 13 июля город сдался под личным уничтожающим огнем бомбардира Петра Алексеева. 9 августа царь был уже под Нарвой и руководил осадой. Хотелось ему поквитаться за памятные медали. Нарва пала через неделю, русские учинили дикую резню, убивали женщин и детей. Петр застеснялся перед европейцами, которые такого сроду не видали, и отдал приказ «к ноге». Но наши калмыцкие буддисты и казанские исламисты никак не могли оторваться от донорской крови. Пришлось Петру зарубить кого-то родного. Он стал ездить по улицам Нарвы, заваленным трупами, и успокаивать мирных жителей, показывая окровавленную шпагу. «Не бойтесь, это не шведская кровь, а русская!» – ласково обращался государь к онемевшим немочкам, – своим верноподданным отныне и навек. Почти на три века.
Зимовать и выпивать поехали в Москву. Там было построено 7 триумфальных ворот, жгли фейерверки, ну, и так далее, по программке.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.