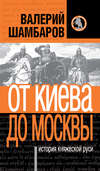Kitabı oku: «Политическая история Первой мировой», sayfa 2
Часть первая. От седанской катастрофы До парижской конференции
Глава 1. Образование единой Германии и расцвет «колониальной» эпохи
ЭПОХУ между двумя мировыми войнами, как и нашу эпоху, нельзя понять, не зная и не понимая того, из чего возникала Первая мировая война.
И здесь есть ряд ключевых вопросов…
Готовилась ли война?
Если готовилась, то кем, как и зачем?
Насколько она была неизбежна?
И как протекали основные мировые и европейские события, которые ей предшествовали?
Между прочим, даже в те времена, когда всё и происходило, перед этими вопросами пасовали серьёзные европейские историки. Французский профессор Дебидур свой наиболее известный труд «История европейской дипломатии», закончил в 1891 году так: «Мы можем надеяться (не впадая в утопию), что наиболее опустошительные завоевательные войны, причинами которых почти всегда является честолюбие какой-либо династии или необдуманный порыв какого-либо народа, станут в Европе всё более и более редкими».
Здесь было ошибкой всё: и объяснение причин, и само предвидение хода событий. Через четверть века после прогноза Дебидура в самом центре Европы шла именно опустошительная завоевательная война с участием соотечественников профессора.
Но где и когда она началась?
На вопрос «Когда она закончилась?» ответить проще. Окончательно она завершилась 28 июня 1919 года во Франции, в Версале, когда были поставлены подписи под основным документом, фиксирующим итоги Первой мировой войны.
А если мы пойдём по шкале времени назад?
Тогда, перебирая прошлое год за годом, можно увидеть, что и начиналась Первая мировая там же – в Версале. Во всяком случае, в Версале во второй половине XIX века начался отсчёт подготовки условий для такой европейской войны, в малейшее сравнение с которой не шли даже наполеоновские войны.
ВЕРСАЛЬ – это бывшая деревушка, позже – маленький городок в восемнадцати километрах от Парижа. Людовик XIV устроил в нём свою блестящую резиденцию, и с тех пор Версаль вошёл не только в придворные хроники, но и в историю дипломатии. В 1763 году – за шесть лет до рождения Наполеона – Генуэзская республика передала здесь Франции Корсику. В 1783 году Версальский мирный договор утвердил независимость США. В свете будущих далеких событий – деталь символическая.
О красоте Версальских фонтанов слышали все. Менее известно, что, для того чтобы Король-Солнце мог любоваться блеском водяных струй, тут вначале рекой лились и золото, и кровь. На постройку водопровода для версальских каскадов королевская казна за три года истратила девять миллионов ливров. У тридцати же тысяч солдат и каменщиков, занятых на строительстве, были только жизни. Жизнью и пришлось заплатить за королевское удовольствие десяти тысячам из них. А весь Версальский комплекс обошелся народу Франции деньгами в полмиллиарда ливров.
Общий итог человеческих жертв, понесённых Францией ради создания красот Версаля, от историков ускользнул.
Версаль столетиями был символом вечного празднества, но его подлинная символическая суть иная: за внешним золотым блеском для сотен избранных – нищета, страдания и смерть сотен миллионов тех, кто этот блеск создавал.
Ко второй половине девятнадцатого века в версальских прудах отразилось много великих событий. Здесь французская монархия достигла пика своего могущества при Людовике XIV, отсюда же король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта отправились в путь, закончившийся для них на гильотине.
Здесь проходил короткими шажками император французов Наполеон, и здесь же красовался – значительно позже – его племянник, император Наполеон III. Вторая империя третьего Наполеона закончилась вместе с капитуляцией французской армии при Седане во время франко-прусской войны.
ОБ ЭТОЙ ДАВНЕЙ войне, имевшей эпохальное значение не только для обеих стран – её участниц, но и для остального большого мира, в Советском Союзе писали всегда невнятно. До прямых фальсификаций дело не доходило, однако ракурсы подачи эпохи были смещены серьёзно.
В чем тут дело? Пожалуй, в том, что одним из результатов войны стало вначале образование, а затем падение Парижской Коммуны. И причастность Пруссии, Бисмарка, Мольтке к разгрому Коммуны программировала негативное отношение к победе немцев в трудах советских историков.
У «историков ЦК КПСС» выходило так, что угрюмая, воинственная, милитаристская, кровожадная и агрессивная Пруссия, желающая поскорее выполнить программу объединения Германии «железом и кровью», вторглась в солнечную и жизнерадостную Францию, жестоко подавила её, отняла у неё провинции Эльзас и Лотарингию и ограбила побеждённых французов, наложив на них контрибуцию в 5 миллиардов франков.
Бисмарка же вообще обвиняли в подлоге. Он якобы и спровоцировал войну, вычеркнув несколько существенных фраз из так называемой «Эмсской депеши», перед тем как передать её в печать.
Имея перед глазами такую схему, не сразу можно было разобраться в том, что войну-то 19 июля 1970 года объявила Пруссии Франция! Причём великий наш писатель Иван Сергеевич Тургенев, связанный с французской общественной средой теснейшим образом, тем не менее оценил это объявление как «бесправное (то есть необоснованное. – С. К.), дерзко-легкомысленное».
И заносчиво-агрессивное, прибавлю уже я. Французская империя Наполеона III вознамерилась как минимум присвоить Рейнскую провинцию с историческими городами Кёльном, Аахеном, Триром (родиной Карла Маркса), то есть, как комментировал всё тот же Тургенев: «едва ли не самый дорогой для немецкого сердца край немецкой земли».
Французы были заранее уверены в победе. Их ружьё Шаспо по дальности (до 1800 м) и скорострельности (9 выстрелов в минуту) превосходило прусское игольчатое ружьё Дрейзе. Решительный перевес у немцев был в артиллерии: крупповские стальные нарезные орудия стреляли на 3,5 километра, а французские бронзовые – не далее 2,8 километра. Зная это, можно сказать, что война оказалась неким противостоянием фанфаронистой «бронзы чувств» и современных, новейших «стальных воли и ума».
В своих «Письмах о франко-прусской войне», написанных в августе 1870 года в Баден-Бадене, Тургенев отмечал: «Шансы на стороне немцев. Они выказали такое обилие разнородных талантов, такую строгую правильность и ясность замысла, такую силу и точность исполнения, численное их превосходство так велико, превосходство материальных средств так очевидно»…
Написал Тургенев и о противниках немцев: «Я и прежде замечал, как французы менее всего интересуются истиной… Они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность – особенно остроумие. Но есть ли во всём этом правда? С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется лень узнать, что происходит у других, у соседей. И притом кому же неизвестно, что французы – «самый учёный, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи»… При теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, этот страх перед истиной, это отвращение к ней страшными ударами обрушились на самих французов».
Тургенев надеялся, что поражения образумят Францию, заставят её посмотреть саму на себя трезвым взглядом, как это было с Россией после Крымской войны. Однако, забегая вперёд, можно сказать, что верных выводов французы так и не сделали… Вместо того чтобы упорно работать, учиться у немцев ежедневному строительству экономической мощи страны (а заодно учиться и уважать своих учителей-соседей, как это сделал наш Пётр в отношении шведов), французы все страсти галльской души вложили в идею «реванша над бошами». И уже одно это обстоятельство давало основание ожидать в будущем крупного военного конфликта на тех же полях сражений – в районе Страсбурга, Меца, Шалон-сюр-Марна… И ожидать по вине не столько немцев, сколько недалёких, но мстительных французов.
Смысл франко-прусской войны часто видят в «захватнических планах» прусского юнкерства. Что ж, одной из причин было и это. Но вот как его, этот смысл, представлял себе в реальном масштабе времени человек истинно русский, долго живший во Франции, скончавшийся в Буживале, близ Парижа, однако и Германию считавший своим «вторым отечеством». Я имею в виду опять-таки Ивана Тургенева. Его свидетельства и оценки ценны сразу по нескольким причинам, ведь он и хорошо осведомлённый современник, и тонкий, внимательный наблюдатель, и великий писатель, и объективный аналитик, приверженный не одной чьей-то стороне, а только собственному видению событий. Увидеть франко-прусскую войну его глазами будет для нас и полезно, и интересно.
Да и, пожалуй, неожиданно…
Так вот, 8 августа 1870 года Тургенев писал П. В. Анненкову: «Я с самого начала, вы знаете, был за них (немцев. – С. К.) всею душою, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немыслимо, пока это безобразие не получило достойной кары… Говоря без шуток: я искренне люблю и уважаю французский народ, признаю его великую и славную роль в прошедшем, не сомневаюсь в его будущем значении; многие из моих лучших друзей, самые мне близкие люди – французы; и поэтому подозревать меня в преднамеренной и несправедливой враждебности к их родине, вы, конечно, не станете».
И Тургенев не просто личную точку зрения излагал, а писал чистую правду, сообщая: «Я всё это время прилежно читал и французские, и немецкие газеты и, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог… Даже в таких дельных газетах, как, например, «Temps», попадаются известия вроде того, что прусские унтер-офицеры идут за шеренгами солдат с железными прутьями в руках, чтобы подгонять их в бой, и т. п… И это говорится в то время, когда вся Германия из конца в конец поднялась на исконного врага»…
А враг действительно был старинный – со времён ещё Тридцатилетней войны и последовавшего за ней Вестфальского мира 1648 года, по которому Франция отторгла от Германии Эльзас и добилась юридического закрепления германской раздробленности на ворох мелких «королевств» и «княжеств».
Владетельная шваль одинакова везде – что в России раннего средневековья, что в абсолютистской Европе. Русские удельные князья, разодрав единую Киевскую Русь на уделы, «обеспечили» России трёхсотлетнее татарское иго… Французские герцоги и графы – Столетнюю войну во Франции. А германские «великие» князьки, желая быть «владетельными», более двухсот лет преграждали путь Германии к объединению. Но помогали им в этом «вестфальские» принципы и идеи.
Недаром даже через десятилетия после Седана канцлер Германской империи фон Бюлов, выступая 14 ноября 1906 года в рейхстаге, напоминал: «Вестфальский мир создал Францию и разрушил Германию».
Теперь, когда Германия возрождалась и на поднятый меч отвечала поднятым мечом, французы не проявили в своем противостоянии с ней ни ума, ни чувства меры, ни благородства. Официальный «Jornal officiel» уверял, что цель войны со стороны Франции – возвращение немцам их свободы (!). Журнал «Soir» восклицал: «Наши солдаты так уверены в победе, что ими овладевает как бы некий скромный страх перед собственным неизбежным триумфом»!
Это было написано за месяц до Седана!
Каково?
Одновременно парижская газета с названием «Свобода» нахваливала некого Марка Фурнье за его статью в «Paris-jornal», где было сказано дословно: «Наконец-то мы узнаем сладострастие избиения. Пусть кровь пруссаков льётся потоками, водопадами, с божественной яростью потопа! Пусть подлец, который посмеет только сказать слово «мир», будет тотчас же расстрелян как собака и брошен в сточную канаву»…
Словами дело не ограничивалось… Немцев избивали (не на поле боя, а мирных немцев, живших во Франции) и особым постановлением изгоняли (всех подчистую) из французских пределов. Тургенев отмечал: «Разорение грозит тысячам честных и трудолюбивых семейств, поселившихся во Франции в убеждении, что их приняло в свои недра государство цивилизованное».
В то время Пруссия прочно считалась другом России. Эта дружба, начинавшаяся на полях «Битвы народов» при Лейпциге, где русский и прусский солдаты плечом к плечу стояли против Наполеона, постоянно укреплялась и растущими экономическими взаимными оборотами. Однако петербургская печать самым странным образом с пеной у рта протестовала «против немецких захватов». А корреспондент «Биржевых ведомостей» сообщал, что, дескать, в Бадене кричат: «Смерть французам!», и отдыхающие там русские барыни вследствие этого перешли, мол, на русский язык.
Находившийся, как мы знаем, в самом Баден-Бадене Тургенев заметил на это: «Г-н корреспондент достоин быть французским хроникёром: в его заявлении нет ни слова правды».
На деле наши барыни по-прежнему предпочитали русскому языку французский с нижегородским акцентом. И щипали корпию не только для немецких, но и для французских раненых, с которыми (как и вообще с пленными) немцы вели себя тогда по-рыцарски в отличие от французов. «Благородные» шевалье призвали на европейскую войну, как писал Тургенев, «звероподобных тюркосов (алжирских арабов. – С. К.)», и те обращались с немецкими пленными, ранеными, врачами и сёстрами милосердия далеко не благородно.
Впрочем, и цивилизованный природный француз – политик Поль Гранье де Кассиньяк – отказывал женевскому Красному Кресту в субсидиях на том основании, что он-де будет заботиться не только о французских, но и о немецких жертвах войны. Невольно вспоминается заявление генерала графа Дюма во времена наполеоновской оккупации Дрездена. Когда город осадили союзные русско-прусские войска, Дюма объявил: «Скорее все жители города обратятся в трупы, нежели один-единственный французский солдат умрёт с голоду».
До этого, правда, не дошло – Дрезден быстро занял незабвенный Денис Давыдов.
Приведу вновь свидетельство Тургенева, неплохо разбиравшегося и в политике, и в словесном выражении человеческих мыслей и устремлений: «Нельзя не сознаться, что прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь – трезвая и честная правда; там – какая-то то яростная, то плаксивая фальшь. Этого, во всяком случае, история не забудет».
Впоследствии, увы, всё сложилось так, что последний прогноз Ивана Сергеевича не оправдался. Только потому, что Германия-Пруссия, выиграв франко-прусскую войну, не отказалась воспользоваться плодами победы, советская «История дипломатии», например, оценила линию Пруссии как «захватническую» и «несправедливую».
А вот Ленин, к слову, был в своей исторической оценке спокоен: «Во франко-прусской войне Германия ограбила Францию, но это не меняет основного исторического значения этой войны, освободившей десятки миллионов немецкого народа от феодального раздробления и угнетения двумя деспотами – русским царём и Наполеоном III».
Не стоит подозревать Ленина в германофильстве. В августе 1915 года, в разгар Первой мировой войны, он писал: «Не дело социалистов помогать более молодому и сильному разбойнику (Германии) грабить более старых и обожравшихся разбойников (Англию и Францию. – С. К.)».
Ленин был прав как во второй своей оценке, так и в первой. Накануне франко-прусской войны вопрос об объединении Германии встал особенно остро. В 1867 году был создан Северогерманский союз, по конституции которого прусский король Вильгельм Первый возглавлял германские государства к северу от реки Майн в качестве «президента» союза, его верховного военного главы и руководителя дипломатии.
Южные немецкие государства – Бавария, Гессен, Вюртмберг – заключили с Северогерманским союзом соглашения. И для Вильгельма, и для Бисмарка, и для народной немецкой массы новое положение вещей было лишь прологом к единой Германской империи.
Тургенев комментировал происходящее так: «Неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-то народ на месте немцев, в теперешнем их положении, поступил бы иначе?».
Да, Германия включила в свои пределы Эльзас и Лотарингию, но не только по праву победителя, а и потому, что французский, например, город Страсбур был основан как немецкий Страсбург и присоединён к Франции лишь в 1681 году, через тысячу лет после своего основания! Имена создателей знаменитого Страсбургского собора: Эрвин из Штейнбаха, Ульрих из Энсингена, Иоганн Гюльц из Кёльна – говорят сами за себя… А так называемая «Страсбургская присяга», данная 14 февраля 842 года близ Страсбурга, оказалась одновременно памятником и старофранцузского, и древненемецкого языка. Тогда два младших внука Карла Великого клялись совместно действовать против их старшего брата Лотаря. Людовик Немецкий (будущий король Германии) клялся на немецком, а Карл Лысый (будущий король Франции) – на французском языке. Иными словами, правá на эти земли были, в общем-то, и у немцев, и у французов спорными и равными.
Крах Второй французской империи отдал первенство немцам.
После Седанской катастрофы Версаль стал штаб-квартирой прусского короля Вильгельма. В Зеркальном зале Версальского дворца 18 января 1871 года и была провозглашена Германская империя. Вильгельм стал первым германским императором – кайзером.
Прошло почти полвека, и положение двух стран поменялось противоположно: в Первой мировой войне потерпела поражение Германия. Великодушие не относится к добродетелям властителей европейских народов. Из поколения в поколение они жадны, жестоки и мелочно мстительны. Лишний раз это подтвердил премьер Французской республики Жорж Бенжамен Клемансо. Именно стены Зеркального зала избрал он в свидетели унижения теперь уже Германии в отместку за Седан. Так в Версале был подписан последний в его «дипломатической» истории важный международный акт – Версальский мирный договор 1919 года.
Это произошло после заключения предварительных условий мира во французском штабном вагоне в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. Пройдёт ещё двадцать лет, и опять капитулирует Франция. Гитлер прикажет притащить Компьенский вагон, чтобы подписать капитуляцию обязательно в нем. Можно было бы обойтись и без дешёвой символики, но не забудем: Гитлер всего лишь следовал по стопам Клемансо.
ГОСУДАРСТВА начинали, вели, выигрывали и проигрывали войны, народы при этом исправно платили дань золотом и жизнями. Такое распределение обязанностей не было чем-то новым, но после франко-прусской войны масштабы и характер политики «железа и крови» становились совсем другими. С этой поры началась новая история мира, потому что в мир пришёл новый мощный и динамичный фактор его преобразования – объединённая имперская Германия.
Примерно в те же годы окончательно сложился и ещё один серьёзнейший фактор – мировой финансовый капитал, то есть банковский капитал, активно сращённый с торговой и промышленной жизнью капиталистического мира и управляющий этим миром.
Академик Е. В. Тарле в конце 20-х годов – что называется, по ещё не остывшим следам – написал книгу «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.». Блестящий историк-энциклопедист, он не мог написать неинтересно, но далеко не всегда он проникал в суть событий глубоко… Возможно, сказалась любовь к Франции и нелюбовь к Германии, но картина эпохи повёрнута в книге Тарле как-то боком… Свет анализа падает на неё так, что многое важное не заметно из-за неверных бликов, зато малосущественное бросается в глаза не по истинному своему значению.
Об эпохе, предшествовавшей Первой мировой войне, Тарле в обычной для него яркой манере писал: «Намечалась грандиозная внешняя борьба, столкновение самых гигантских сил, какие только видело человечество. Могущественно организованный финансовый капитал и в Англии, и во Франции, и в Германии, двигая, как марионетками, дипломатией, всюду вёл систематически провокационную политику. Могущественные экономические силы более отсталых стран, вроде России и Италии, действовали в том же духе…».
Всё это хорошо и верно, но…
Но Евгений Викторович так и не пришёл к генеральной, основополагающей мысли о том, что «столкновение самых гигантских сил» намечалось прежде всего кое-кем, находившимся за океаном, что фактическая режиссура в театре политических марионеток Золотого Капитала всё решительнее переходила в руки дяди Сэма.
Увы, не поняв этого, Тарле ошибся и во многом другом, увидев смертельного врага России в Германии, хотя именно Германия могла быть для России наиболее подходящим партнёром во внешнем мире.
Объединение Германии произошло не благодаря «железу и крови» в первую очередь. Смысл этих слов Бисмарка переврали сразу же после их произнесения, а они для происходившего не были ключевыми. Германию объединило стремление десятков миллионов немцев, осознавших, что их подлинная Родина – не Баден, Вюртемберг, Гессен или Дармшадт, а Германия, разобщённая на протяжении веков и поэтому на протяжении веков ослабленная. Теперь она объединялась, и в новой Европе очень многое зависело от того, как сложится судьба германо-российских связей.
Именно их.
Наступали новые времена, и период от версальского триумфа Вильгельма до версальского триумфа Клемансо (только вот Клемансо ли?) задал тон событиям на весь двадцатый век. Поэтому нам просто необходимо, читатель, хотя бы галопом проскочить по «Европам» тех лет, чтобы разобраться в собственном времени.
Нет лучшего «романа» о молодом империализме, чем ленинский труд «Империализм, как высшая стадия капитализма». Он полон фактов и цифр, которые никак нельзя назвать сухими – так много в них слез, пота, крови, жадной слюны, нефти и керосина, финансовых бурь, океанских вод, золотых дождей и водопадов политиканского красноречия…
По накалу изображённых страстей страницы этого ленинского «романа» могут соперничать сразу с Шекспиром и Мольером одновременно. Возможно, читатели подумают, что я преувеличиваю? Отнюдь нет. Часто цитируемый Лениным, далеко не литературный берлинский журнал «Банк» считал, что «на международном рынке капиталов разыгрывается комедия, достойная пера Аристофана».
И этот же журнал не скрывал, каковы гонорары «актёров»: «уступка в торговом договоре, угольная станция (то есть лишний порт в далеких водах для заправки грузовых судов, а при необходимости и дредноутов. – С. К.), постройка гавани, жирная концессия, заказ на пушки…».
Последнее становилось всё более нужным. Почти одновременно с версальскими речами Вильгельма, в 1872 году, английский еврей Дизраэли – лидер аристократичных консерваторов, бывший и будущий премьер-министр Её Королевского величества Виктории и будущий лорд Биконсфилд – выступал в Хрустальном дворце в Сайденхэме близ Лондона.
Бывшее главное выставочное здание Всемирной Лондонской выставки 1851 года было насквозь пронизано солнцем, и это не метафора. Железный каркас дворца заполняли стеклянные плиты: Кристал Пэлас задумывался как символ светлого, обеспеченного новыми возможностями общества. Однако Британии этого — лондонского – солнца было уже мало. Для Дизраэли существовало лишь светило, долженствующее не заходить над Британской империей, к расширению которой он и призывал.
Дизраэли, друг Ротшильдов, знал, что говорил. Знал, что говорил и его преемник лорд Солсбери, разъяснявший новую колониальную политику Британии так: «Раньше мы фактически были хозяевами Африки, не имея надобности устанавливать там протектораты или нечто подобное – просто в силу того, что мы господствовали на море». Теперь же приходилось расширять и формально закреплять своё присутствие, ибо господствовать в мире хотел не только британский лев.
К тому же к концу XIX века положение лордов хотя и было внешне прочным, но только внешне. Сесиль Родс (по имени которого долгое время часть Африки называлась «Родезия») говорил в 1895 году своему другу, журналисту Стэнду: «Я посетил вчера одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: «хлеба, хлеба!» – я, идя домой и размышляя об увиденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма. Мы должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами…».
Родс, конечно, недоговаривал, что если вы хотите быть империалистами, то вы обязательно должны хотеть и войны – империалистической, внешней. Во-первых, она быстро и навечно помещает часть избытка населения в «новые земли» и обеспечивает быстрый оборот стали, меди, хлопка и солдатских пайков… Во-вторых, без такой войны не обойтись просто потому, что не одни ведь английские лорды задумывались над увиденным в рабочих кварталах. Давление масс начинала ощущать правящая элита всех развитых стран. Соответственно, и война нужна была не одной Британии.
Во Франции крах Второй империи привёл вначале к установлению не Третьей буржуазной республики, а социалистической Парижской Коммуны. И после 1871 года понятие «версальцы» во Франции приобрело вполне определённое значение – это были те буржуазные войска, которые пришли из Версаля в Париж и расстреляли надежды рабочих у стены кладбища Пер-Лашез. Остались могилы, однако не исчезли надежды и память. Поэтому у французских собратьев Родса по классу тоже болела голова о новых землях и рынках. Тем более что они-то знали, что это такое – гражданская война.
Начинала постепенно закипать и Америка. Первого мая 1886 года в Чикаго рабочие забастовали и вышли на демонстрацию с требованием 8-часового рабочего дня. Вместо этого многие из них получили 9 граммов свинца, но свинец – не всегда подходящая социальная «пища» для масс. Пока что, правда, первая «маевка» погоды не сделала, и будущий президент США Теодор Рузвельт писал в том мае сестре Анне: «Мои здешние рабочие на ранчо – люди, занятые на изнурительной работе, их рабочий день длиннее, а заработная плата – не выше, чем у многих стачечников; но они американцы до мозга костей. Я бы хотел, чтобы они оказались со мной рядом против мятежников; мои люди хорошо стреляют и не знают страха».
Подход, впрочем, не отличался особой новизной даже для Америки. Президент Пенсильванской железной дороги Томас Скотт шестью годами ранее высказался следующим образом: «Покормите рабочих-забастовщиков пулемётными очередями в течение нескольких дней, и вы увидите, как они примут этот вид питания».
Пули, однако, были только врéменным решением проблемы. В начале XX века 1 (один) процент «американской нации» владел 47 (сорока семью) процентами национального богатства. Для «самой свободной страны» соотношение несколько неожиданное. И могли прийти такие времена, когда даже «американцы до мозга костей» не пожелали бы заниматься от зари до зари изнурительным трудом ради того, чтобы полковник Рузвельт и ему подобные забавлялись уничтожением последних американских бизонов на грандиозных охотах.
Это достаточно быстро понял и сам бравый полковник. В 1894 году экономический кризис в США, лишивший работы 3 миллиона человек, породил такое явление, как «марш безработных» на Вашингтон во главе с Джейкобом Кокси из Огайо. 11 мая 1894 года началась забастовка на заводах Пульмановской вагоностроительной компании. Пиком её стали волнения 5 июля, когда был сожжён вокзал и 700 вагонов. К 3 августа забастовку удалось подавить силой, но это была лишь временная победа. И уже в 1897 году Рузвельт пишет ряд «социальных» статей, одна из которых прямо называлась: «Как же не помочь нашему бедному брату».
Нет, Рузвельт – теперь уже губернатор штата Нью-Йорк – не изменился. Добиваясь уступок рабочим от промышленников, он держал наготове национальную гвардию. После того как он стал президентом, его резервом стали федеральные войска. Всё же это был прогресс: пули уже не приходили ему на ум как первый и самый надёжный аргумент. В 1899 году он писал своему другу, лорду Спринг Райсу: «Мы должны решать огромные проблемы, возникающие из отношений между трудом и капиталом. В предстоящие пятьдесят лет нам придётся уделять этому вопросу гораздо больше внимания, чем экспансии…».
Рузвельт лгал даже старому другу: Капитал США уделил внимание рабочему вопросу только после того, как США в 1929 году оказались на грани социальной революции. Уводить от неё Америку Капитал доверил тогда Франклину Делано Рузвельту – кузену Теодора Рузвельта. А вот экспансию начал уже он сам…
Именно США провели в 1898 году первую империалистическую войну. Это была война с Испанией за новые колонии. Впрочем, ещё до этого, в 1893 году, янки оккупировали Гавайские острова. В 1898 году Рузвельт не был президентом, но его младший друг и единомышленник, писатель и журналист Уильям Уайт писал: «Когда испанцы сдались на Кубе и позволили нам захватить Пуэрто-Рико и Филиппины, Америка на этом перекрёстке свернула на дорогу, ведущую к мировому господству. На земном шаре был посеян американский империализм. Мы были осуждены на новый образ жизни».
Как всё же глуп оказался мир, если забыл эти чёрные слова Уайта и всё более поддаётся господству США, омертвляющему мир.
Лицемерие всегда было такой же фамильной чертой американской элиты, как и напористая наглость. Уайт подтвердил это лишний раз: по нему выходило, что если бы не «слабаки»-испанцы, то добрый дядя Сэм сидел бы себе спокойно меж двух океанов и никуда оттуда не порывался бы. Тут всё было поставлено, конечно, с ног на уши. Не слабость Испании «повернула» Америку к экспансии, а Капитал Америки, набрав силу, двинулся по пути к мировому господству, отшвырнув пинком одряхлевшую Испанию.
Испано-американская война началась, между прочим, с того, что 15 февраля 1898 года американский крейсер «Мэйн» был взорван в порту Гаваны якобы испанской миной. Погибло 260 моряков, началась газетная кампания в поддержку интервенции на Кубу «для защиты гражданского персонала США и американской собственности»…
Война длилась недолго: начавшись 24 апреля 1898 года, она уже с 26 июля перешла в фазу «мирных» переговоров, а 10 декабря 1898 года завершилась «мирным» Парижским договором, по которому Испания отказалась от претензий на Кубу, передала Америке в качестве военных репараций Пуэрто-Рико и остров Гуам и за компенсацию в 20 миллионов долларов уступила Филиппины.
Что же до «Мэйна», то когда много лет спустя затонувшее судно подняли со дна моря, оказалось, что взрыв-то был, но изнутри!