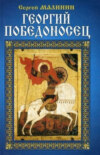Kitabı oku: «Морской спецназ. Звезда героя»
Глава 1
Ровный теплый ветер с зюйд-веста гнал в сторону берега мелкую злую волну. По небу метались рваные клочья принесенных с турецкого берега туч, то заслонявшие, то вновь открывавшие бледное размытое пятно луны. Ветер свистел в леерах и растяжках антенн, глухо подвывал в выступах палубной надстройки, блуждал среди зачехленных орудийных башен, ракетных установок и торпедных аппаратов. Ракетный катер «Кострома» входил в Новороссийскую бухту, возвращаясь из учебного похода на Босфор. Поход близился к концу, и прямо по курсу сквозь мглу ненастной ночи уже стали видны вспышки маяка на дальнем мысу.
Вспенивая острым форштевнем черную воду и оставляя в кильватере длинные пенные усы, судно миновало створ маяка и вошло в бухту. В темноте за бортом мелькали белые гребешки пены, на маслянистой и черной, как сырая нефть, поверхности воды то и дело вспыхивали лунные блики и отблески бортовых огней. Над кормой, почти невидимый в темноте, полоскался и хлопал на ветру Андреевский флаг. Было начало третьего ночи; измотанный долгим походом экипаж спал в кубриках и каютах, бодрствовали лишь вахтенные да еще, быть может, те, кому не спалось в силу каких-то специфических, сугубо личных причин.
Впрочем, таких людей на борту почти не было, поскольку команда выходила в море далеко не впервые и все, от командира до кока, ценили минуты отдыха на вес золота. Для офицеров морские походы давно стали обыденной работой, да и матросы недалеко от них ушли: по крайней мере, для того, чтобы лишить любого из них заслуженного, положенного по распорядку сна, требовались причины куда более серьезные и веские, чем качка, плеск волн или так называемая морская романтика. Катер был в море больше месяца, вместе с другими кораблями Черноморского флота выполняя учебные задачи, а заодно напоминая основательно зарвавшимся американцам, что не одни они умеют строить корабли и устанавливать на них мощное современное вооружение (что, по сути, и являлось главной задачей похода, причем отнюдь не учебной, а самой что ни на есть боевой). Ветра, воды, солнца, тяжелой работы и новых, порой довольно острых ощущений и впечатлений хватило всем. К тому же время лечит, и даже если кто-то из матросов получил перед походом дурные вести из дома (чаще всего такие вести приходили в пахнущих дешевыми духами конвертиках и сводились к тому, что некая девица устала хранить верность лихому морскому волку и пришла к выводу, что данное некогда упомянутому «волку» обещание было, мягко говоря, опрометчивым), – так вот, если кто-то из экипажа и получил перед выходом в море такой конвертик, то горечь пустяковой утраты, лишь в юности кажущейся невосполнимой, выветривалась и забывалась за корабельными буднями.
Поэтому все, кто был свободен от вахты, спали крепким сном людей, разбудить которых посреди ночи могут только колокола громкого боя. Единственным исключением являлся человек, который, облокотившись о фальшборт на корме, курил, поплевывая во вспененную ходовыми винтами воду. Освещенная мертвым светом прожектора стальная палуба была чиста и пустынна, как обратная сторона Луны. Она мелко, привычно вибрировала, передавая подошвам полный сдержанной мощи пульс судовой машины; шум винтов под кормой заглушал все звуки; над водой, исчезая во мраке, сизой пеленой стелился дымок выхлопа. Человек стоял в угольно-черной тени ракетной установки, бессмысленно и грозно уставившейся в зенит, и его присутствие выдавал только огонек сигареты, что мерно разгорался и гас во мраке, как позиционный огонь летящего сквозь ночь самолета.
Справа по борту, на фоне затянутого рваными, подсвеченными клонящейся к западу луной тучами неба смутно виднелся силуэт скалистого мыса, на оконечности которого возвышался маяк. Человек выбросил за борт окурок и посмотрел на часы. Часы были «командирские», водонепроницаемые и противоударные, изготовленные в те полузабытые времена, когда название «Командирские» и красная звездочка на циферблате еще служили гарантией качества. Он очень дорожил этими часами, тем более что это был подарок, о чем свидетельствовала выгравированная на задней крышке надпись.
Слабо фосфоресцирующие стрелки показывали половину третьего. Дальний берег едва виднелся на чуть более светлом фоне ночного неба. Теперь там поблескивала редкая россыпь электрических светлячков, обозначавшая базу боевых пловцов-водолазов, подразделение которых было расквартировано неподалеку от Новороссийска. Человек на корме подумал вдруг, что ракетная установка, в тени которой он притаился, могла бы стереть базу с лица земли одним залпом, если не одним-единственным выстрелом. Нет, правда, странно устроена жизнь. Спецназ, элита, люди без тени, морские дьяволы, способные в одиночку оказывать решающее влияние на ход малых региональных конфликтов и больших войн, неуловимые и страшные убийцы, люди-легенды, способные творить совершенно немыслимые, фантастические вещи… А между тем один случайный запуск с ракетного катера, который при иных обстоятельствах любой из них мог бы отправить на дно, и готово – от всех от них не останется ничего, кроме груды головешек…
Мысли были странные, непривычные, как будто чужие. Человек, что стоял на корме ракетного катера «Кострома», не имел ничего против боевых пловцов. Он был российский военный моряк, как и они, и, как у многих членов экипажа, у него хватало знакомых на базе, огоньки которой сейчас медленно проплывали мимо по правому борту.
Он вынул было из пачки новую сигарету, но, передумав, скомкал ее в кулаке и отправил за борт: пора было браться за дело.
Присев на корточки, он выволок из-под брезента, которым была окутана станина ракетной установки, продолговатую, увесистую на вид спортивную сумку. Расстегнув «молнию», проверил содержимое, которое, разумеется, никуда не делось, задействовал лежавший внутри миниатюрный радиомаяк в водонепроницаемом пластиковом чехле, положил его на место и застегнул сумку. Радиус действия маяка был невелик, что-то около километра; хитро сконструированный и остроумно усовершенствованный приборчик начинал работать не сразу же, а только через час после того, как была нажата кнопка. Таким образом, чувствительная пеленгующая аппаратура «Костромы» не могла засечь и запеленговать его сигнал даже случайно, что гарантировало относительную безопасность.
Держа сумку на весу, он огляделся по сторонам. Палуба по-прежнему напоминала обратную сторону Луны – она была так же пустынна и четко поделена на два цвета: ярко, до рези в глазах, освещенный мощным прожектором серый металл резко контрастировал с четкими угольночерными тенями.
Сумка весила чуть больше тридцати килограммов, и держать ее на весу было не то чтобы очень тяжело, но и не сказать, чтобы совсем легко. К тому же время шло, «Кострома» тоже не стояла на месте, и момент, когда предпринимать что бы то ни было окажется непоправимо поздно, был уже недалек.
Человек перевалил свою поклажу через стальной фальшборт, помедлил секунду, а потом разжал пальцы. Тяжелая сумка камнем канула в темноту, гул корабельной машины и шум вспениваемой винтами воды заглушили короткий всплеск. Тогда человек все-таки закурил и стал думать о скором возвращении домой. Ему представлялась освещенная ярким полуденным солнцем панорама Новороссийской бухты, обожженные серо-желтые камни под ногами, пучки сухой травы над обрывом, сверкающее яростными солнечными бликами зеркало воды – ближе к берегу зеленоватой, а на глубине синей, как аквамарин, – белая башенка маяка на дальнем мысу, крики чаек и черное стальное веретено дизельной подлодки, неторопливо возвращающейся к родному пирсу из дальнего похода. Это была родная, знакомая с раннего детства картина, от которой, как всегда, сладко защемило сердце.
Потом он вспомнил о том, что лежало сейчас на дне бухты, и эта картинка померкла, дрогнула и растаяла, как мираж, оставив его один на один с темной ненастной ночью и не слишком веселыми мыслями.
– Снявши голову, по волосам не плачут, – негромко произнес он вслух, выбросил окурок за борт и, сунув руки в карманы, неторопливо зашагал к своей каюте.
* * *
Алексей Кокорин, по прозвищу Кокоша, стоял в наряде и, как обычно в подобных случаях, грезил наяву.
Погруженная в полумрак казарма спала. Из заставленного двухъярусными железными койками спального помещения доносились всхрапывания, сопение и сонное бормотание намаявшихся за день матросов. Свет, как и положено в ночное время, был погашен везде, кроме туалета и оружейной комнаты, подле которой стоял на вахте Кокоша. Запертая на замок и опечатанная раздвижная решетка оружейки позволяла во всех деталях разглядеть чисто вымытый, местами протертый до дыр линолеум на полу, длинные, выкрашенные в унылый серый цвет деревянные столы для чистки оружия и такие же уныло-серые, запертые и опечатанные оружейные шкафы вдоль стен. Поскольку вся передняя стена оружейной комнаты представляла собой решетку, изнутри для надежности затянутую металлической сеткой, горевшего там света вполне хватало, чтобы тускло освещать узкий коридор, ведший из спального помещения к туалету и дальше, на лестницу, которую матросу первого года службы Кокорину до наступления утра предстояло надраить до блеска.
Кокоше хотелось курить, но до смены оставалось еще больше часа. Да и будет ли она, смена? Второй вахтенный, татарин Рашидов, был «карась» – то есть, прослужил уже больше года и на этом основании пользовался определенными привилегиями. А поскольку дежурным по роте нынче заступил старшина второй статьи Лопатин, можно было с большой долей уверенности предположить, что сменщик Кокоши преспокойно проспит до самого подъема и никто ему в этом не помешает.
В принципе, ничто не мешало ему на время оставить пост возле оружейной комнаты и быстренько перекурить в гальюне, до двери которого от места, где он стоял, было метров пять. Ночью, когда все спят, в том числе и начальство, даже дежурные офицеры смотрят на такое нарушение устава сквозь пальцы. Тем более что, если не закрывать дверь туалета, можно заранее услышать шаги на лестнице и вернуться на пост раньше, чем дежурный по части или проверяющий войдет в казарму. Но, как уже было сказано, дежурным по роте в этот наряд заступил старшина второй статьи Лопатин, а это, братцы, такая сволочь, что выкуренная тайком сигарета может вылезти боком.
Кокорин сдержанно вздохнул. Жизнь в наряде была устроена точно так же, как и в казарме, или в кубрике, как ее здесь называли. Молодежь, «салаги» и «бакланы», выполняла за себя и за того парня всю грязную работу; «караси» наподобие Рашидова играли роль сторожевых псов, принуждая молодых матросов к покорности и повиновению, а старослужащие почивали на лаврах, пробуждаясь к активности лишь тогда, когда нужно было блеснуть перед начальством во время учений. Так было всегда и везде – точнее, почти везде, и даже Кокоша, парень простой, деревенский и не слишком продвинутый по части абстрактного мышления и всяких умозаключений, давно понял: так оно и будет дальше, сколько бы высшее командование ни кричало о борьбе с неуставными взаимоотношениями. Потому что офицерам, которые непосредственно работают с личным составом, дедовщина выгодна и удобна: порядок в подразделении поддерживается будто бы сам собой, обучение молодых бойцов проходит нормально (еще бы оно не проходило; жить захочешь – чему угодно научишься в два счета!), и беспокоиться, стало быть, надо только о том, чтобы процесс не вышел из-под контроля, чтобы в ходе этого так называемого обучения кого-нибудь из салаг не покалечили или, боже упаси, вовсе не вогнали в гроб тем или иным способом, – словом, о том, чтобы шило не слишком выпирало из мешка.
Кокоша опять вздохнул. У этой медали, как и у любой другой, было две стороны. Ясно, дедовщина – это плохо, особенно когда ты только начинаешь служить и вкалываешь, как негр на хлопковой плантации. А с другой стороны, как еще можно за считаные месяцы сделать из вчерашнего маменькиного сынка настоящего бойца? Кому это надо – зубрить уставы, отрабатывать строевые приемы, подчиняться каким-то клоунам в звездах и лычках, потеть на тренажерах и заучивать наизусть тактико-технические данные оружия и всяких там приборов? Да что там оружие и тренажеры! Палубу в кубрике драить кому охота? Ясно, что надо, иначе грязью зарастешь, но ведь неохота же, елки зеленые! Вот пускай, кому надо, тот и драит, а я в уборщицы не нанимался… И что ты ему сделаешь? В наряд поставишь? На губу пошлешь? Это хорошо, если он один такой разгильдяй. А если все скопом? Всех на губу? А Родину тогда кто станет защищать?
А вот если его, раздолбая, пару раз сводить после отбоя в каптерку, а еще лучше гальюн и там, в гальюне, провести с ним воспитательную работу, он мигом сделается шелковым и умственные способности к усвоению сложного учебного материала у него появятся, будто по волшебству, – даже у самого тупого. Это Кокоша хорошо знал по себе, поскольку, обладая прекрасным здоровьем и развитой мускулатурой, никогда не питал склонности к учебе – настолько не питал, что, как ни бились с ним семья и школа, аттестат о среднем образовании он получил еле-еле, и, кроме троек, была в том аттестате одна-единственная пятерка – сами понимаете, по физкультуре. Так вот, если бы школьные учителя на уроках применяли те же методы обучения, что старшина второй статьи Лопатин, из российских школ выпускались бы одни сплошные медалисты – золотые или, на самый худой конец, серебряные.
Берешь, к примеру, обычный полевой телефон. Присоединяешь провод к чему-нибудь металлическому – хотя бы и к спинке кровати. Заставляешь «баклана» взяться за эту спинку обеими руками и задаешь ему вопрос – по уставу, по правилам минирования плавсредств или там по устройству ПП – подводного, сами понимаете, пистолета. И если ответ неверный, поворачиваешь ручку этого самого телефона. Ток, который выдает спрятанная в коричневом эбонитовом корпусе динамо-машина, слабенький – убить не убьет, но по пальцам шарахнет, как железный лом. Отлично прочищает мозги, между прочим, да и память обостряет лучше любых тренировок.
Или еще проще – противогаз. Тут подойдет любая модель, лишь бы маска плотно прилегала к лицу и был исправен выпускной клапан – то есть чтобы работал, как полагается, только на выдох, не пропуская вовнутрь «забортный» воздух. Надеваешь его, опять же, на «баклана» и приступаешь к проверке знаний – задаешь вопрос и пережимаешь шланг. Подача кислорода в этом случае возобновляется только тогда, когда испытуемый дает внятный, удовлетворительный ответ или, не зная такового, начинает терять сознание…
Но это все еще полбеды, все это можно пережить. Помнится, в самом начале, когда Кокоша только пришел в часть и едва начал вникать в здешние порядки, проходивший мимо лейтенант Порошин, заметив, по всей видимости, что молодому матросу не по себе (а ему действительно было очень не по себе после первой разъяснительной беседы в гальюне со старшиной второй статьи Лопатиным и его приятелями), с участием, в котором сквозила легкая насмешка, процитировал ему какого-то древнего философа, сказавшего, что все, что не убивает, делает нас сильнее. Поразмыслив, Кокорин пришел к выводу, что философ, а вместе с ним и лейтенант в чем-то правы. Вот только в своей способности пережить то, что по замыслу должно было сделать его сильнее, он в последнее время начал сомневаться.
Главная беда была в его характере, и даже не столько в характере, сколько в выражении румяной губастой физиономии. Из-за этого выражения в родной деревне его прозвали Телком (звать его Кокошей там, дома, никому не пришло в голову, потому что Кокориных там было полдеревни, а может, и больше). Высокий, плечистый и сильный, Кокоша был безобиден, наивен и робок, как самый настоящий теленок. Таким всегда больше всех достается от сверстников и в детском саду, и в школе, и в пионерском лагере. Что уж говорить об армии!
Говоря коротко, Леха Кокорин с первого дня своей срочной службы стал козлом отпущения, и конца этому не предвиделось.
Он стоял у решетчатой стены оружейной комнаты рядом с привинченным к стене телефоном в архаичном корпусе общевойскового образца, трубкой которого при желании можно было запросто проломить кому-нибудь череп, и вместо выкрашенной масляной краской стены казарменного коридора видел перед собой тихую равнинную речушку за околицей и заливные луга с темной щетинистой полоской дальнего соснового бора на горизонте.
Потом в тишине спящей казармы послышались неторопливые шаги нескольких человек. Двое тяжело и уверенно, нисколько не боясь потревожить сон окружающих, стучали каблуками, и еще как минимум двое шаркали казенными тапочками.
Бросив быстрый косой взгляд в сторону темного кубрика, Кокоша поспешно подтянулся, приняв строевую стойку. Оттуда, из кубрика, уже выходили четверо – дежурный по роте старшина второй статьи Лопатин, второй вахтенный, татарин Рашидов, и еще двое старослужащих. Лопатин и Рашидов были одеты по всей форме, поскольку стояли в наряде, а их спутники щеголяли в тельняшках, трусах и тапочках.
Внутри у Кокорина все так и заныло от нехорошего предчувствия. Конечно, теоретически эти четверо могли направляться не к нему, а в гальюн, чтобы перекурить и, может быть, даже глотнуть одеколону. Но это только теоретически. Ну на кой ляд, спрашивается, им было вставать посреди ночи только затем, чтобы выкурить по сигарете?
Когда они проходили мимо, Кокоша на всякий случай вытянулся в струнку и отдал честь. Что с того, что на дворе ночь и что вахтенный вовсе не обязан козырять каждому, кто, одной рукой придерживая сползающие трусы, а другой протирая заспанные глаза, на заплетающихся ногах бредет мимо него по нужде в гальюн? Было бы желание, а придраться можно и к столбу: почему, дескать, криво стоит?
– Вольно, матрос, – насмешливо бросил, проходя мимо, старшина второй статьи Лопатин.
Козырнуть в ответ он, естественно, и не подумал. Даже адмирал на его месте козырнул бы, но Лопатин – не какойнибудь адмирал, а старослужащий, ему устав не писан.
– Не матрос, а матрас, – поправил его татарин Рашидов, на ходу доставая из кармана робы сигареты.
– Служи, сынок, как дед служил, а дед на службу положил, – зевая и почесывая сквозь сатиновые трусы свое хозяйство, продекламировал Тихон.
Тихон был с Кубани; с кубанцами Кокоша впервые познакомился только здесь, на флоте, и пришел к твердому убеждению, что все они внутри гнилые, как перезимовавшие в земле картофельные клубни.
Четвертый член компании, питерский гопник по кличке Плекс, молча сделал из пальцев козу и ткнул этой козой в сторону вахтенного, как будто намереваясь выколоть ему глаза. Не успев совладать с собой, Кокоша вздрогнул так сильно, что коснулся стриженым затылком решетки оружейной комнаты – еще бы чуть-чуть, и треснулся бы понастоящему.
– Не дергайся, чмо, – сказал ему Плекс, волоча ноги в норовящих свалиться тапочках, – сигнализация сработает.
Возглавлявший процессию Лопатин хрюкнул, отдавая должное плоской шутке, и, ни разу не обернувшись, скрылся за дверью гальюна. За ним последовал Тихон, потом Плекс. «Неужели пронесло?» – злясь на себя за только что пережитый испуг и поневоле испытывая огромное облегчение, подумал Кокорин. У себя в деревне он не боялся никого и ничего и теперь просто не мог понять, каким образом за каких-нибудь полгода превратился в слизняка, который, как трусливый малолетка, пугается козы из пальцев.
В этот момент замешкавшийся Рашидов, будто что-то припомнив, вдруг выглянул из-за двери туалета и поманил его рукой.
– Э, Кокоша, – позвал он подозрительно миролюбивым, чуть ли не ласковым тоном, – айда, перекурим.
– Так я ж на тумбочке, Рашидыч, – попытался возразить Кокорин.
– Тумбочка – не Алитет, в горы не уйдет, – успокоил его татарин. – Иди сюда, сколько раз тебе повторять? Базар есть. Ну?!
В последнем междометии явственно прозвучала угроза. Кокорин сделал неуверенное движение, но остался на месте. Он уже успел набраться горького опыта и привык подозревать в каждом слове старослужащих хитро расставленную ловушку. А тут ловушка была простенькая, примитивная и почти ничем не замаскированная. Не пойдешь – схлопочешь от Рашидова за то, что не послушался; пойдешь – огребешь от старшины за то, что самовольно, без разрешения, оставил пост…
– Товарищ старшина второй статьи… – пробормотал он.
– Что «товарищ старшина второй статьи»? – попрежнему стоя одной ногой в коридоре, а другой в гальюне, переспросил Рашидов. – Товарищ старшина второй статьи бакланов не жрет, он макароны по-флотски уважает… Э, Лопата! – негромко крикнул он в гальюн. – Ты чего зверствуешь, как три адмирала в одном флаконе? Совсем загонял человека, от тумбочки отойти боится!
Лопатин не совсем разборчиво откликнулся в том смысле, что за «Лопату» некоторые «караси» могут и ответить и что гонять «бакланов» – не его, старшины второй статьи Лопатина, забота, он их в свое время погонял так, как нынешним салагам и не снилось.
Это, к слову, была чистая правда: теперешние «караси», к числу которых относился и Рашидов, рассказывали о нем жуткие легенды и советовали молодежи благодарить бога за то, что не попали Лопатину в руки, пока тот сам ходил в «карасях».
– Пускай подгребает, – заключил свою краткую и энергичную речь Лопатин.
– Слыхал? – сказал Рашидов.
– Слыхал, – вздохнул Кокорин и, покосившись на молчащий телефон (хоть бы тревогу объявили, что ли!), нехотя побрел к туалету.
Рашидов по-прежнему стоял в дверях, даже не думая посторониться. Протискиваясь мимо, Кокоша непременно задел бы его. Впрочем, он знал, как надлежит вести себя в подобных ситуациях. Снова приняв строевую стойку, он отчетливо, по-уставному, козырнул и отбарабанил:
– Товарищ старший матрос, разрешите обратиться! Разрешите пройти в гальюн!
– Валяй, – хмыкнул татарин и отступил от двери.
Кокорин вошел в гальюн – не в туалет как таковой, а в примыкавшую к нему умывальную комнату, – и Рашидов аккуратно закрыл за ним дверь.
Лопатин, Тихон и Плекс уже дымили сигаретами. Плекс и Тихон с удобством расположились на подоконниках, а старшина второй статьи стоял, привалившись задом к жестяной раковине умывальника, используя соседнюю раковину в качестве пепельницы. Все трое окинули вошедшего вахтенного одинаково равнодушными взглядами, как неодушевленный предмет, и вернулись к прерванному его появлением разговору. Лопатин, как обычно, повествовал приятелям о своих победах на любовном фронте. Если верить его словам (некоторые верили), он за время службы успел переспать с женами практически всех офицеров и мичманов части, не говоря уже о тех женщинах, что в ней работали. В данный момент (опять же по его словам) у него был в самом разгаре бурный роман с женой командира отряда, капитана второго ранга Машкова. За глаза кавторанга называли Машкой – естественно, имея в виду вовсе не распространенное женское имя, а простой и остроумный агрегат для натирки вощеных полов, представляющий собой увесистое бревно с ручкой и набитыми на него снизу сапожными щетками, также именуемый «машкой».
Откровенно говоря, Кокоша сильно сомневался в правдивости рассказа товарища старшины второй статьи. Несмотря на свое прозвище, кавторанг Машков был настоящий мужик и, не колеблясь, одним ударом пудового кулака снес бы башку любому, кто рискнул бы бросить на его супругу нескромный взгляд. Разумеется, даже услышав собственными ушами грязную болтовню Лопатина, мараться о матроса срочной службы кавторанг Машка не стал бы, но жизнь этому умнику устроил бы такую, что тот потом навсегда утратил бы интерес к женщинам, особенно к чужим женам. Так что, разглагольствуя на данную скользкую тему, Лопатин сильно рисковал, и это заставило Кокошу в очередной раз заподозрить, что товарищ старшина второй статьи не так умен, как хочет казаться, а пожалуй, что и вовсе глуп как пробка.
Вероятно, Лопатин и сам сообразил, что в присутствии молодого матроса продолжать повесть о своих сексуальных подвигах не совсем разумно, и довольно неуклюже закрыл тему, пробормотав что-то по поводу салаг, которым такие разговоры слушать вредно – а то, дескать, на них никакого брому не хватит и в бане потом придется мыться с оглядкой. Мол, им, отморозкам, все равно, к кому пристраиваться – хоть к бабе, хоть к соседу по кубрику, хоть к старослужащему, хоть к дырке в заборе…
– Да, борзая пошла молодежь, – сокрушенно вздохнул Тихон, стряхивая пепел на недавно вымытый Кокориным пол. – Все им по барабану. Говоришь ему: это, мол, для твоей же пользы, чучело ты земноводное, – а ему хоть кол на голове теши. Ну, ни хрена не доходит! Как дети малые, ей-богу, так и норовят то мамке пожаловаться, то командиру настучать…
Кокорин насторожился, как сапер, неожиданно очутившийся посреди минного поля без металлоискателя в руках.
– Ну, не скажи, – лениво возразил Тихону Плекс. —Есть, конечно, чмошники, но не все такие! Вон, возьми, к примеру, Кокошу.
Все трое снова повернулись к Кокорину, и он лопатками почувствовал тяжелый взгляд стоявшего у дверей Рашидова. О том, чтобы устроить перекур, который предлагал ему татарин, естественно, не могло быть и речи. Больше всего разговор старослужащих смахивал на прелюдию к очередной воспитательной беседе, а стало быть, ухо следовало держать востро. Кокорин ломал голову, пытаясь понять, чем провинился, но на ум ничего не приходило. Правда, большого значения это не имело: для того, чтобы покуражиться над Алексеем Кокориным, каких-то особенных причин, как правило, не требовалось, достаточно было желания.
– Возьми хоть Кокошу, – повторил Плекс. – Это ж боевой парень, морская душа! Альбатрос, мать его за ногу! Разве такой парень стучать побежит? Ну, скажи, Кокоша: не побежишь ведь?
– Не побегу, – сказал Кокорин.
Это была правда. Жалобщиков не любил никто, в том числе и он сам. Кроме того, жаловаться было бесполезно и даже опасно: при том, что жалобы выслушивались офицерами с глазу на глаз и что при подобных разговорах гарантировалась полная конфиденциальность, содержание их становилось известно всей части едва ли не раньше, чем борец за справедливость успевал добраться до кубрика. О том, какая судьба ждала глупца, вздумавшего искать защиты от притеснений у отцов-командиров, лучше было не думать. В тех редких случаях, когда такое действительно случалось, дело, как правило, заканчивалось переводом жалобщика от греха подальше в другую часть.
– Вот видишь, – сказал Плекс Тихону, – не побежит. – Чего ему куда-то бегать? Если что, такой герой и сам может за себя постоять.
– Ну а то, – выдув в потолок толстую струю дыма, вступил в разговор Лопатин. – У него брат Чечню прошел, а это тебе не фунт морской капусты. Брат его научил, как действовать, если что не нравится.
– А как? – живо заинтересовался Тихон.
– А тебе зачем? – делано изумился старшина. – Тебя вроде и так давно уже никто не достает…
– Ну а вдруг? – не отступал кубанец.
– Боишься, что салаги прессовать начнут?
– Вот урод, – пожаловался Тихон, обращаясь к Кокоше. – Лычки нацепил, а мозгов, как у дохлой трески. Вот из-за таких, как он, на флоте служить трудно… Ну его в болото! На, земеля, курни.
Взяв с подоконника, он протянул Кокорину открытую пачку «Лаки страйк».
– У меня свои, – попробовал отказаться Кокоша. Разговор о Чечне и брате нравился ему все меньше.
– «Приму» свою побереги, – дружелюбно посоветовал Тихон. – Закуришь ее, когда на очке сидеть будешь. А при мне ее даже не доставай. У меня организм слабый, подорванный долгой службой Отечеству, я от этой вони в обморок могу упасть. Бери, бери, морячок, от меня не убудет.
Кокорин нерешительно взял сигарету и прикурил от зажигалки, которой услужливо щелкнул Тихон. Вообще, дембелям было дозволено многое, в том числе и панибратство с молодняком, которому они зачастую покровительствовали. Но поведение Тихона все равно выглядело очень подозрительно, поскольку до сих пор ни одному старослужащему даже в голову не приходило проявить подобную демократичность в отношении Алексея Кокорина.
Бросив зажигалку на подоконник, Тихон опять с шумом почесал промежность и уселся на прежнее место.
– Так расскажи, почему в Чечне дедовщины нет, попросил он, болтая голыми волосатыми ногами в дерматиновых шлепанцах.
У Кокорина екнуло сердце. Дорогая сигарета сразу стала безвкусной, в коленях появилась предательская слабость. Он понял, в чем дело, и теперь его мучил только один вопрос: кто же это успел настучать? Во время того разговора в наряде по камбузу, когда он коснулся этой скользкой темы, никого из старших рядом не было. Стало быть, настучал кто-то из его же призыва, такой же, как он, «баклан»…
– Не знаю, – предпринял он неуклюжую попытку выкрутиться.
– Как так – не знаешь? – изумился Тихон. – Рашидов, освежи ему память!
Стоявший сзади татарин нанес Кокоше несильный, но точный удар по почкам. Молодой матрос охнул и покачнулся, потому что удар по почкам остается ударом по почкам, даже если ты способен играючи выжать полторы сотни килограммов и хоть сто раз подтянуться на перекладине.
Сидевший на соседнем подоконнике Плекс откровенно наслаждался происходящим, жалея, по всей видимости, лишь о том, что статус дембеля не позволяет ему присоединиться к Рашидову. Лопатин, щуря от дыма левый глаз, разглядывал Кокошу с ленивым любопытством, как какое-то насекомое. В умывальной комнате было сыро, промозгло, пахло лизолом и хлоркой. Белый кафель стен сиял чистотой, которую совсем недавно навел Кокоша. У него – у Кокоши, разумеется, а не у кафеля – было предчувствие, что чистоту вскоре придется наводить вторично, отмывая со стен и пола собственные кровавые сопли.
– Ты что, дурак? – спросил у Рашидова Тихон. – Таблетку надо было дать человеку, а ты – по почкам… Не знаешь, что ли, что в Чечне с такими, как ты, бывает?
– Не знаю, – подыгрывая ему, развел мосластыми ручищами татарин.
– Вот видишь, и он не знает, – обратился Тихон к Кокоше. – Просвети народ, чего ты жмешься? Жалко тебе, что ли? Вдруг вот он, – Тихон ткнул пальцем в сторону Рашидова, – послушает-послушает да и призадумается?
– Давай говори. – Рашидов сильно толкнул его между лопаток. – Или ты только над бачком с картошкой такой смелый? Брат у него в Чечне, хлеборезом в офицерской столовой… Видали мы таких героев! Просидят полтора года в штабе, а потом перед девками хвост распускают: я, мол, воевал!
На какое-то мгновение желание развернуться на сто восемьдесят градусов и размазать татарина по стенке стало почти непреодолимым. Брат Лехи Кокорина Иван вернулся с первой чеченской войны без правой руки, и потерял он ее вовсе не в хлеборезке, о чем свидетельствовали три боевые медали. Старший матрос Рашидов так никогда и не узнал, насколько близок он был в данный момент к тому, чтобы тоже сделаться калекой на всю оставшуюся жизнь. Спас татарина вовсе не страх, который Кокоша испытывал перед ним и дембелями, а мужицкая рассудительность молодого матроса. В драку могли вмешаться старослужащие; с учетом того, в какой части все они служили и какими приемами рукопашного боя владели, предсказать исход побоища в гальюне не взялся бы, наверное, и Нострадамус. Кокошу могли покалечить, а то и убить; сам он тоже мог, а главное, хотел кого-нибудь убить или покалечить и сделал бы это непременно, если бы не вспомнил о матери. Отец умер три года назад, а однорукому брату вести крестьянское хозяйство было, мягко говоря, затруднительно, так что Леха Кокорин просто-напросто не имел права умирать, становиться инвалидом или садиться за решетку. Он должен был вернуться домой точно в положенный срок и притом живым и здоровым.