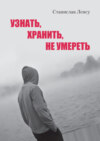Kitabı oku: «Истории, рассказанные доктором Дорном. И другие рассказы», sayfa 3
Мне стало скучно и привычно: в такой манере не раз со мной говорили мои пациенты. Они точно так неутомимы в искании красноречивых оправданий своих навязчивых идей.
Кажется, я улыбнулся этой мысли, поскольку Кирилла Иванович спросил:
– Вам кажется это забавным?
Я устыдился свои бестактности.
В это время в дверях появился половой, неся на подносе пузатый графинчик и наполненную рюмку. Писатель в одно мгновение опрокинул водку в разверзшийся в бороде рот. Затем взял с подноса какой-то листок бумаги и пробежал его глазами. Оборотившись ко мне, сказал:
– Вам тут записка. Уж извините мою бесцеремонность! Явился некий господин Томский. Надеюсь, новость для вас не огорчительная? – и тут же хохотнул, – сам-то я страсть как не люблю неожиданных визитеров!
* * *
Я скоро шел по коридору, удивляясь внезапности появления посетителя. Кирилла Иванович вышагивал рядом. Он навязался мне в провожатые, говоря, когда мы покидали уютную комнату и компанию литераторов, что дом-де старый путаник, столько переходов, что кабы он тут сызмальства не хаживал, то не смог бы шагу ступить, чтоб не потеряться в коридорах.
– Ах, милый доктор! Верите ли, в юности, я бывал здесь часто. Часами просиживал в сумраке здешней библиотеки! Я витал в своих романтических грезах далеко от дождливой и унылой осени! Задыхался от ветра в метели, пытал счастье вместе с рыжим инженером, сражался и погибал в отрядах этеристов!
Коридор был длинный. Высокие стены, выкрашенные в охру, с белой лепниной под потолком были увешаны гравюрами. Я шел, невольно оглядывая их, и свет от ламп вдруг выхватывал из темного небытия тоги античных героев, повозку на лесной дороге, узловатые ветви деревьев и захрапевшую, вздыбившуюся в испуге лошадь.
Неожиданно коридор свернул налево, оборвался несколькими ступеньками вниз и провел в полутемный боковой коридор через ярко освещенную, но пустующую комнату с несколькими креслами и столом для игры в карты.
Проходя мимо какой-то залы, я услышал музыку, кусками выскакивающую из приоткрытых дверей, шум голосов. Яркий свет на мгновение прорезал полумрак.
– Нам туда? – обратился я к провожатому.
– Нет-нет, – последовал ответ, – это потом, это позже.
В просторных сенях, где на вешалке гроздьями висели плащи и накидки, где лакей дремал среди шляп и зонтов, молодой человек с манерами провинциального аристократа нервно мерил диагональ комнаты широкими шагами.
Он обернулся к нам, и по тому, как переводил он требовательный взгляд с меня на бородатое и широкое лицо Чабского, я догадался, что это и есть вызвавший меня незнакомец. Он коротко и слегка кивнул, не спуская с нас глаз, и представился:
– Томский, местный помещик, – и тут же спросил, обращаясь к нам обоим, – господин Дорн?
– Это – вот-с, – обрадовался Кирилла Петрович и бесцеремонно подтолкнул меня вперед, – рекомендую – Евгений Сергеевич Дорн, врач. Ведь вы врача ищете, господин Томский?
– Да-с, врача-с! – Томский подошел и протянул мне руку, – Собственно именно вас, господин Дорн.
Визитер окинул меня взглядом, то ли примериваясь, то ли оценивая. Он разглядывал меня почти бесцеремонно, и я, было, начал закипать, и готов был резко распрощаться с ним, но в этот момент Чабский громко провозгласил «Ну-ну, не смею отвлекать…» и растворился в проеме левой двери. Лакей из угла неожиданно громко всхрапнул. Мы остались вдвоем.
– Прошу простить меня, Евгений Сергеевич, – Томский прервал молчание, – видите ли, дело мое деликатного свойства.
Он снова замолчал. Было видно, что началу разговора мешает не волнение, а какая-то душевная борьба, словно, ему претило посвящать меня в это «дело деликатного свойства». Я ждал.
– Не угодно ли… – он сделал усилие и неожиданно совершенно казенным голосом продолжил, – господин Дорн, не соблаговолите ли нанести визит моей тетушке?
* * *
Коляска катила по опустевшим по вечернему времени улицам. Закатное небо плыло над нашими головами. По сторонам громоздились темные, безмолвные дома. В промежутках меж ними, оттуда, где ютились небольшие сады, неожиданное солнце вдруг ослепляло глаза, прорываясь сквозь поредевшую осеннюю листву, и снова пропадало.
Из короткого разговора в сенях дома купца Игнатова я узнал от Томского, что он со своей родственницей живет в имении в десяти верстах от города N***. Молодой человек уговорил меня заночевать в имении с тем, чтобы утром я мог осмотреть больную. Видя мои колебания, он вызвался самолично и тотчас же после осмотра отвезти меня в город. При этом, я заметил, был он нетерпелив и готов был вспылить.
В дороге мы большей частью молчали. Все мои расспросы о самой пациентке, о её здоровье оставались без ответа. Томский лишь однажды коротко ответил:
– Фантазии, доктор, фантазии!
Дом стоял сразу за поворотом недавно наезженной колеи. Неряшливо разросшиеся кусты и ряд тополей в стороне от крыльца, указывали, что именно там когда-то была главная подъездная дорога. Сам дом с высоким крыльцом и колоннадой по фасаду был темен и выглядел нежилым. В вечернем сумраке среди серых теней выделялся двумя горящими окнами в первом этаже неказистый флигель, стоящий с северной стороны усадьбы. Именно к нему направил коляску Томский.
Мы прошли через темные и стылые комнаты в небольшую столовую, где на круглом столе исходил жаром самовар. Толстая с пасторальным рисунком скатерть с бахромою понизу волнами ниспадала до самого пола. Лампа с широким и тоже с бахромой абажуром висела низко и очерчивала круг света над столом.
Неслышно из-за тяжелой портьеры появилась женщина, видимо из прислуги, низко поклонилась нам, пробормотав при этом что-то себе в подол. Томский прошелся по комнате, задернул плотные шторы на окне, окончательно погасив тлеющий вечер, и остановился возле стола. Мы молчали: я, с любопытством оглядывая жилище, Томский, застыв у стола, погруженный в раздумья. Прислуга, неслышно скользя вкруг стола, расставляла чашки и продолжала бормотать что-то невнятное.
Вдруг из темноты соседней комнаты послышался шорох. Словно шелк зашуршал. Звук делался явственнее, громче, и вот – уже не было сомнений! – то была женщина, идущая к нам быстрой походкой. Мгновение, и вот она вошла. Невысокая, с гордой посадкой головы, взгляд острый. Платье на ней было скроено по моде начала века: шелковое, силуэт покатый от плеч и в талию, рукава буфы, юбка колоколом с множеством сборок на бедрах. Волосы, расчесанные на косой пробор и убранные наверх «узлом Аполлона» были модного каштанового цвета.
При всей неожиданности такого платья для наших дней, я словно рассматривал акварели Соколова, наряд удивительным образом был естественен вошедшей, и что называется, comme il faut. Не хватало лишь бравого кавалергарда рядом или щеголя с тростью и в шляпе шапокляк.
Однако при взгляде на её лицо я к своей досаде обнаружил, что женщина некрасива и что было ей лет пятьдесят. Впрочем, приглядевшись, я уже не был столь уверен, около шестидесяти? Нет, старше, это наверное! Или все же… и эти нелепые румяны! В общем, я был несколько растерян.
– Ma tante, – произнес Томский, – позволь представить тебе господина Дорна.
Лицо моего провожатого имело выражение, словно он только что выплюнул лягушку: брезгливое и одновременно раздосадованное.
– Дорн? – переспросила вошедшая, – доктор?
Голос был сильный, грудной и властный.
Я сдержанно поклонился:
– Дорн, Евгений Сергеевич, врач.
К чаю было варенье, пирожки с капустой и мёд. За столом говорила преимущественно хозяйка. Я слушал внимательно, надеясь уловить в её поведении, словах и внешнем виде какие-нибудь признаки, которые могли бы указать на недуг, ради которого, собственно, я и притащился в этот странный дом. Впрочем, habitus и речи её наводили на определенные мысли.
Томский решительно молчал с видом человека, выполнившего крайне неприятный для него долг.
– Paul, ты так упрям, что бываешь несносен! Представь, mon ami, -обратилась она ко мне, – пришлось устроить небольшой скандал, чтобы он отправился за тобой! Но я рада, что он тебя отыскал! Вот видишь, – она повернулась к насупившемуся «Paul», – ты говорил, что это мои фантазии и выдумка сочинителя! Полюбуйся, – тетушка повернулась в мою сторону и торжествующе указала на меня раскрытой сухонькой своей ладошкой, – всякая литературная небылица, в конце концов, материализуется! Что было раньше? Афиша, театральная программка! Теперь изволь видеть – Дорн, совершеннейший Дорн! И не актеришка какой, что ни на есть самый натуральный Евгений Сергеевич!
Мне стало неприятно, что обо мне в моем же присутствии говорят в третьем лице:
– Однако, мне странно слышать ваше удивление. Что ж с того, что моя фамилия совпадает с неким персонажем?!
– Нет, любезный, тебе не вывернуться! Уж коли попал впросак, имей силу признать! Был ты выдумкой театральной, а вот обрел и плоть, и кровь. Да и полно тебе фанабериться! Чай не одному тебе творец дал случай жизнью пожить!
– Простите? – я насторожился.
Та словно ждала моей реплики: живо встала из-за стола и подалась чуть вперед ко мне так, что свет лампы осветил её лицо. Изумруд черепахового гребня в высоких её волосах вспыхнул и погас. В волнении она вскричала:
– Взгляни! Ужель не знакома? Ах, боже мой! Я – творение нашего гения!
Томский страдальчески закатил глаза и громко застонал.
Я был совершенно сбит с толку и, сознаюсь, в некоторой растерянности глядел на старуху. Вялая кожа на шее, румяна на поблекших щеках, неаккуратно раскрашенные с комочками краски ресницы и выцветшие глаза.
– Ну же! – тетушка стояла несколько принужденно под светом лампы.
Потеряв терпение, она упала на стул:
– Вглядись, бестолочь! Я графиня***!
Я отшатнулся:
– Невероятно, – признаюсь, я был поражен, – вы хотите сказать, что вы – графиня***?! Но это невозможно!
– Так же невозможно, как и твое существование, любезный! – быстро парировала графиня.
– Но это – случай! – воскликнул я в волнении.
– Сказка – неожиданно отозвался Томский.
Некоторое время все молча пили чай. Графиня торжествующе улыбалась, Томский хмурил брови, я приводил мысли в порядок.
Невероятно! Вот так просто, среди сельской скуки и пустомыслия, в заброшенной усадьбе и в тесной комнатенке передо мною приключилась совершенно безумная старуха! Хорошо бы с бредом и навязчивостью более подходящей для нашего скромного городка! Скажем, небывалый урожай или добрые дороги. Так ведь нет! Пиковая дама! Каково, а? Вот уж действительно сила гения! Но Томский, Томский!
Я покосился на молодого помещика.
Сидит, морщит лоб, как ни в чем не бывало. Позвольте! Томский! но ведь он действительно племянник графини! Случай! Конечно, случай! Конфуз, однако, Евгений Сергеевич, в другом. Позволь спросить тебя: а ты сам кем будешь? Какой такой Дорн? Не вспоминается ли вам Генуя, доктор? Нет, нет, пустое! – я решительно тряхнул головой, – вот мы сейчас все разъясним! Непременно разъясним!
– Позвольте узнать, – обратился я к сумасшедшей и неожиданно для самого себя добавил, – ваша светлость…
– Что тебе, сударь мой? – сварливо отозвалась графиня.
– Вот вы изволили представиться графиней ***. Однако ж, согласитесь, это довольно неожиданно. В наших краях и дворян то немного, и все в переписи значатся. У нас и предводителя никогда не бывало, а тут…
– Смею вас уверить, Евгений Сергеевич, – сокрушенно вздохнул Paul, – графиня титул получила по мужу покойнику, – он снова вздохнул, – верите ли, я сам иногда теряюсь от её фантазий. Просто голова кругом! А тут ещё вы! Материализовались…
Я, было, нахмурился от вздорного его замечания на мой счет, но решил продолжать и снова обратился к старухе с решающим, как мне казалось, вопросом:
– Однако ж вы тогда должны знать тайну трех карт!
– Полноте, батюшка! – отмахнулась старуха, – ты ведь умный человек, практический. Какая тайна! Выдумки все это, сударь мой! Мальчишество да озорство!
– Но, ma tante! – неожиданно пришел мне на помощь молодой человек, – а как же ваш проигрыш герцогу Орлеанскому? Вы сами рассказывали о месье Сен – Жермене! Это так же верно, как и то, что вам не нравятся утопленники и русские романы!
– Эка ты вывернул, батюшка! – перекрестилась старуха, – ночь на дворе, а ты о романах! Снова утопленники или, чего хуже, артиллерийские офицеры начнут мерещиться!
Она перекрестилась опять и зябко повела плечами.
– И ты туда же? – обратилась она ко мне сердито и передразнила, – три карты! Тоже решил, что случай обхитрить можно?
Графиня сердито поджала тонкие губы. В сильном раздражении сухоньким пальцем своим оттолкнула серебряную ложку.
– Однако ж, ma tante, – горячо продолжил Томский и, не закончив начатой фразы, воскликнул, – если б он не обдернулся на третьей карте, если б не обдернулся!
– С чего вы взяли, что он обдернулся? – вмешался я и осекся.
Я не заметил, как присоединился к их семейному бреду, как готов был уже принять всю эту фантазию за реальность. Графиня и Paul молча смотрели и ждали, как я продолжу. Не скрою, в какой-то момент у меня перехватило дыхание, множество мыслей и образов вихрем пронеслись в моей голове, кровь застучала в ушах, и я… продолжил:
– Он не обдернулся! – сделал я паузу, – она, – я указал на старуху и встал из-за стола, – назвала ему неверную карту!
– Как ты узнал! – взвизгнула старуха в ответ.
* * *
Графиню отпаивали чаем с пионовой настойкой, некоторое время безуспешно, отчего пробовали даже херес, но она долго не успокаивалась, прерывисто охала низким голосом, повторяя «как ты узнал…», и шумно прочищала нос. В конце концов, она перестала выдергивать своего запястья из моих рук, я пытался не столько сосчитать её пульс, сколько успокоить, перестала и затихла.
Немедля выставив племянника вон из старухиной спальни, я с помощью прислуги уложил больную в постель, явившись невольным свидетелем разоблачения дряхлого тела.
Из-под парика каштановых открылись свету седые и коротко стриженые волосы на птичьей голове. Голова её, не медля, была укрыта чепцом с мелкими кружевными оборками. Щуплое старухино тело в длинной теплой рубахе укутали в вязаную кофту и укрыли толстым одеялом.
Я сел рядом с узкой почти солдатской кроватью и снова взял дряблую руку графини. Нащупал пульс. Живая жилка под истончившейся кожей мягко толкала в подушечки моих пальцев, неутомимо струя кровь от сердца к увядающим тканям и обратно.
Лампа с матовым в кольцо абажуром пригашена. Хрустальная рюмка с янтарным хересом забыта на пустом столе. Окно занавешено. Там – ночь.
– Я всегда была некрасивой… – неожиданно заговорила графиня, не открывая глаз. Румяна местами смылись слезами, местами – размазаны носовым платком.
– Мне за семьдесят, а я так остро чувствую, как я не красива. Не было на свете мужчины, в котором родились бы романтические мысли от встречи со мной. Ах, сколько во мне было любви, доктор! Сколько я могла бы отдать счастливцу! – голос её осекся низким всхлипом.
– М-м-м… – промычал я что-то неопределенное. Пульс зачастил и стал напряженным.
– Видно потому мне везло за ломберным столом, – она горько усмехнулась.
Дряблые губы от этой усмешки разъехались наискось, и покрытая мелкими волосками кожа вокруг рта дрогнула множеством мелких морщин. Молоточки под моими пальцами били часто, сбиваясь и замолкая на мгновение, чтобы вновь разразиться очередной дробью.
Старуха молчала, только из угла глаза, заблестев, сбежала слеза, скользнула по скуле, дальше на подушку и расплылась темным пятном.
Пульс засбоил, толчки в пальцы стали короткими, несильными, промежутки меж ними стали чаще, затем внезапно, словно дернули шнур электрического фонаря, все смолкло. Старуха шумно втянула воздух и застыла, не дыша.
Пульс сильно ударил в пальцы и ровными толчками стал дальше отмерять отведенное ей время.
– Было, было… – тихо выдохнула старуха, – на балах сидела с подружками, ждала взгляда, касания руки… ах, как скрипки играли! И все мимо, мимо меня! Проносились пары, юбки шелестели, кружились куполом, ленты в волосах… да все мимо меня… было, было однажды… один только раз, почти случай, подружка из каприза отказала какому-то кавалеру, и он пригласил меня… ах, если б не случай, если б она не засмеялась! Так звонко, так оскорбительно! – она открыла глаза и снова усмехнулась, – он от меня, как от прокаженной отшатнулся! Да потом глянул кругом, все хихикают, и он, стесняясь и закрываясь рукой, тоже прыснул в кулак… Дурак!
Она неожиданно цепко схватила мою руку и сильно сжала:
– Никогда, никто не посмел бы смеяться надо мной, коли со мною был бы кавалер!
Лампа светила неровным светом, рождая всполохи на гранях хрусталя. Ночь за окном густела и заливала темнотой весь белый свет.
– Третьей карты не было, и нет, – выдохнула она тихо, – как не было и первых двух. Русскому человеку подавай всего числом три, … с первого раза он не верит! А фортуна была лишь в одной карте… в одной, но в третьей, – усмехнулась безумная старуха и подмигнула мне левым глазом.
* * *
На ночлег мне отвели небольшую комнату с простой мебелью и низким потолком. Широкое в две створки окно выходило на залитый лунным светом луг перед флигелем.
Я прикрутил лампу, пламя съежилось, затрепетало, едва касаясь фитиля. Глянул в окно.
Черные кроны деревьев застыли, очертив траурной каймой низ светлого неба. Угол господского дома и край крыльца с каменными вазами был виден совсем рядом. Ломкие сухие стебли в вазах были недвижимы, словно редкие штрихи углем на пепельном ватмане ночи.
Я тронул край печи, белевшей в углу комнаты. Было зябко, изразцы едва согревали ладонь.
В это время боковым зрением я заметил, как кто-то со двора заглянул в комнату и тотчас прошел дальше. Я невольно отступил вглубь комнаты и уперся в острый край комода.
Позади меня возникло движение, и я резко обернулся.
Дверь в комнату медленно отворялась. Непроглядный проем между белым полотном двери и стеной неумолимо расширялся, как ломающийся лед на реке медленно и неизбежно открывает бездну черной кипящей воды.
Вошел Томский. В свете луны был он бледен и странен. Я невольно покосился на стену за его спиной, проверяя на месте ли его тень? Черный её силуэт несколько меня успокоил.
– Я не причиню вам вреда, – начал молодой человек и при этом положил правую свою руку за отворот сюртука.
– Вы, я уверен, догадались, зачем я здесь – он прошелся по комнате, как давеча мерил шагами сени купца Игнатова.
– Взгляните на меня, – он резко и с болезненной страстностью оборотился ко мне, – я – нищ! Я – молод и полон планов! Но я – в заточении, в заточении нищеты!
Он судорожно перевел дыхание и приложил ладонь к влажному от испарины лбу.
– Одно ваше слово, третья карта, и я – свободен! Я уеду отсюда навсегда,… уеду в Париж! Как я хочу в Париж! Там свободные люди, среди них и я стану свободен. Быть может там я встречу девушку, такую девушку, которую вовек здесь не встречу! Мы будем путешествовать, мы увидим другие страны, встретим других людей и будем счастливы своей свободой! Одно только ваше слово!
– Однако ж, какая странная у меня ночь! – подумалось мне, – предполагал провести её вовсе не так. Почему – то согласился приехать сюда. Предполагал привести в чувства старуху, а тут безумцами полон дом!
Позднее время, да больше нелепость происходящего не давали мне собрать мысли воедино.
– Так-так, с чего он взял, что я знаю третью карту? Надо, чтобы он высказался, и тогда я смогу понять логику его бреда…, а, поняв, найду возможность направить его мысли в нужное мне русло.
– Да с чего вы взяли, что я знаю третью карту?! – воскликнул я, как можно более непринужденно.
Paul замолчал и склонил голову, как провинившийся студент. Пробор в гладко зачесанных волосах белел, словно косой шрам. Томский медленно достал из-за отворота револьвер:
– Зачем вы так быстро отвечаете? Вы наверное знаете карту!
Молодой помещик держал пистолет крайне неловко, видно, в первый раз. Двумя большими пальцами он с усилием оттянул тугой курок. Улыбнувшись своему успеху, словно дитя, слепившее песочный куличек, он навел револьвер на меня.
– И не вздумайте умереть, чтобы явиться потом старухой! Назначьте карту, доктор!
– …господин Томский, – я прокашлялся, голос мой странным образом задрожал, мысли мои пришли в полное смятение – послушайте, все это нелепость и полный вздор! Я здесь по вашей же просьбе осмотреть графиню… вашу тетушку… я врач, ни о какой карте мне ничего не известно. Я случайно догадался!
– Случайно? – он моргнул. Пистолет дернулся. Я невольно зажмурился.
– Нет, дорогой доктор, не случайно. Вы прекрасно знаете, что ничто не бывает случайным: если кто-то заболевает туберкулезом, то ничто, никакой случай не отвратит его кончины. Вопрос лишь в сроке, кто-то раньше, кто-то позже, но все отправляются в мир иной. Все движется по заведенному порядку. Нет ничего случайного и в том, что я здесь, и в том, что вы здесь. И, если я нажму курок, значит, вы не случайно согласились приехать сюда. Значит, вы стремитесь к смерти. Если я не нажму курок, значит, вы наверное знаете карту. Значит, вы мне её назовете.
Он снова моргнул и продолжил;
– Японцы говорят, жизнь – это дорога. Дорога, которая петляет и вдруг выводит тебя на развилку. Не задумываясь, повернуть влево или направо, ты идешь дальше, не заметив, что у тебя есть выбор. Тебя ведет рок, фатум, судьба! Вот вы, Евгений Сергеевич, сейчас на развилке. А я – фатум, делаю одолжение, позволяю вам выбирать: свернуть влево или вправо.
Сумрак скрадывал черты его лицо, но требовательный и торжествующий взор его блестел и впивался в меня, требуя ответа.
Нет ничего более странного, чем смотреть в черный зрачок револьверного дула. Видеть тусклый блеск металла, представлять, как его точили на станке, догадываться, каким путем револьвер из ружейного магазина попал в руки этого безумца, представлять лицо приказчика, услужливо показывающего достоинства оружия, и отказываться верить, что смерть придет сейчас, придет со вспышкой пламени и запахом порохового дыма.
– Послушайте, Томский, – начал я медленно, стараясь скрыть волнение, – я непременно назову карту. Только ваше логическое построение насчет фатума и… прочее, – я сглотнул, – уязвимо.
Ворот сорочки давил мне горло и я, не торопясь, ослабил галстук.
– Можно ли вас понять, что я неволен пойти третей дорогой? Моя свобода лишь в выборе одной, из предрешенных судьбой?
– Верно! – воскликнул Томский, окончательно войдя в роль фатума.
– Значит ли это, что у меня нет шансов обмануть судьбу?
– Никаких! – радостно поддержал он меня и почти приставил дуло к моему лбу.
– Что ж, я назову карту, – пауза повисла меж нами, и, казалось, сумрак в комнате уплотнился от тишины.
– … но вы, Томский, не обманете свою, – я снова сглотнул пересохшим горлом, – судьбу. Карты уже сданы! Туз лег налево, а дама – направо. Вы не вольны предложить свой вариант. И, коли вам суждено сорвать банк, вы его получите и без моей карты. Если ваш удел прозябать в этом флигеле, то назови я вам карту, не назови, ничего не измениться! Разве что смените этот дом на богадельню.
В этот момент чья-то тень заслонила убогий свет ночного неба, словно кто-то снова заглядывал в окно. Мы, не сговариваясь, отступили вглубь комнаты.
Тень, мелькнув на мгновение, исчезла. Бледный свет вновь залил комнату, зачернив тени и сделав неясными черты наших лиц. Томский коротко глянул на меня, словно проверял, не померещилось ли ему. Потом спрятал револьвер и опустил глаза. Ссутулившись, он быстро вышел из комнаты. Я повалился на кровать, в изнеможении и не раздеваясь. Кажется, я знал третью карту.
* * *
Мне пригрезилось, что я лишь на мгновенье сомкнул глаза, но тут послышался стук в дверь, и голос прислуги позвал:
– Батюшка, милостивый государь, пора уж, поспешайте!
Я быстро встал. Комната была погружена в ночной сумрак. Взглянув в подслеповатое зеркало у кровати, я разглядел, что на мне сюртук и галстук, повязанный вокруг высокого воротника белой сорочки. Меня словно осенило: всего несколько часов назад я покинул бал в доме купца Игнатова! И вот я нахожусь в сельской глуши, среди ночи со странными и чужими мне людьми. Придя от этой мысли в замешательство, я отстранился от зеркала и повернулся к окну. Каково было мое удивление, когда я увидал, что окна господского дома горят, что за ними какое-то движение, и коляски одна за другой подкатывают к шумному крыльцу.
За дверью меня ждала прислуга со свечою в руках. Мы скорым шагом пошли по темным коридорам: женщина впереди, освещая дорогу, я – следом, не понимая, что происходит, но готовый принять невероятность происходящего.
Мы миновали одну комнату, потом другую. Спустя несколько поворотов, мы вышли к переходу между флигелем и домом и тоже его миновали. Наконец, мы очутились в широкой зале, где над головой тяжело нависал балкон второго этажа, пары невысоких колонн справа и слева открывали лестницы, ведущие наверх. Прямо передо мной начинались ступени вниз, в сгустившейся темноте за ними угадывались высокие окна. Оглянувшись, я обнаружил, что моя провожатая покинула меня – красноватое пятно вдали коридора мелькнуло и исчезло.
В тот же самый момент я услышал музыку. Где-то близко, но приглушенно, еле слышно, едва угадываемо, звучала музыка. Скрипки? Скрипки… и даже очень мило, и…, я бы сказал, легкомысленно. Звуки стали отчетливей, они стали прорываться кусками, и вот уже они складываются в мелодию, и вот уже откликаются во мне улыбкой, и наполняют меня радостным ожиданием невероятного, встречи, быть может, или чувства?
«…одной любви музыка уступает…» – нежданно мелькнуло в моей голове
Я шагнул к дверям, как не видел их я раньше? Решительно потянул обе створки, и яркий свет обрушился на меня из огромной, наполненной людьми и музыкой, залы.
* * *
Я шел не спеша мимо статских и военных, мимо разряженных дам и девиц, сдержано кланялся и улыбался в ответ на доброжелательные поклоны странно неузнанных мною людей, растерянно оборачивался вослед незнакомке, скользнувшей по мне заинтересованным взглядом, я шел, и ожидание необычайного не покидало меня.
В центре зала танцевали нескончаемый вальс. Шелестел шелк, мелькали руки, проносились пары, блестели разгоряченные взоры, и улыбки недосказанной откровенности озаряли лица.
На небольшом возвышении, на противоположном конце зала в окружении девиц сидела разряженная и нарумяненная старая графиня ***. Приезжающие гости подходили к ней кланялись, роняли две-три фразы и отходили. Старуха сидела, как изваяние, не видя и, казалось, не слыша никого.
Меня окликнули. Подошел Томский и, взяв меня под руку, увел в боковую комнату, где за несколькими столами шла карточная игра. Мы приблизились к группе молодых людей, наблюдающих и вполголоса обсуждавших игру. Томский представил меня.
– Дорн? – спросил меня одни из них, пехотный офицер с приятным и открытым лицом, – вы – немец? Уж не из обрусевших ли вы немцев?
– Именно так, – решил подыграть ему я, – имея мало истинной веры, имел он множество предрассудков.
– Вот как! – воскликнул другой, отрекомендовавшийся Суриным, – в душе вы игрок, но отроду не брали карты в руки?
Все дружно засмеялись, принимая этим меня в свой круг, и лишь Томский нахмурился, прикусив губу, и поглядел на меня долгим и недобрым взглядом.
Когда дружная компания придвинулась к одному из столов, где пошла игра по крупному, Томский отвел меня в сторону.
– Дорн, – обратился он ко мне, глаза его блуждали и блестели нездоровьем, – при мне сорок семь тысяч. Это все, что у меня есть!
Он замялся, отводя взгляд. И снова продолжил:
– Дорн, послушайте… Евгений Сергеевич, только вы можете спасти меня, мое имя и… – он взглянул на меня, – саму жизнь! Так сложилось… да! именно сложилось, что я похитил на службе триста тысяч. Мерзко, гадко! Я знаю, знаю! Не нужно так глядеть на меня! – прошипел он злобно, и коротко оглянулся на играющих.
– Дорн, – заговорил он лихорадочно, – возьмите эти деньги и сыграйте две карты! Только две! Все сходится, вы полунемец, не играете, но верно, игрок! Вы лишены сердечных привязанностей, вы одиноки, тем слаще играть с судьбой! вы холодны и расчетливы, вы видите мир сквозь призму случая, верите, что путь ваш предначертан, одним словом – игрок! Сыграйте лишь две карты, и верните мне триста тысяч, верните имя, честь и жизнь! Утройте, усемерите мою судьбу!
Я слушал, пытаясь понять, насколько опасно помешательство несчастного Paul.
Тот схватил меня за руку и тихо, на этот раз удивительно спокойно, произнес:
– Дорн, если вы не согласитесь, я застрелю вас. Всё одно – каторга!
Мы подошли к столу как раз на перемену игры.
– Позвольте поставить карту, – обратился я к банкомету. Недавние мои знакомцы заулыбались и зашумели, поздравляя меня с удачным началом мистификации.
В это время Томский быстро надписал мелом куш над моей картой.
– Сколько-с? – прищурившись, уточнил банкомет, – сорок семь тысяч?
При этих словах любопытствующие быстро придвинулись от соседних столов к нам.
– Что, бьете вы эту карту? – не сдержавшись, почти выкрикнул Томский.
– Смею вам заметить, – последовало спокойное продолжение, – что карта ваша сильна, но я не могу метать иначе, как только на чистые деньги. С моей стороны довольно вашего слова, но порядок игры…
Томский, не дослушав, бросил на стол несколько банковских билетов.
Банкомет молча поклонился и стал кидать карты на стол: одну направо, другую – налево.
– Выиграла! – воскликнул я, немало подивившись совпадению выигравшей карты и той, что легла налево.
– Извольте получить? – спросил банкомет.
– Нет, играю снова! – я заменил карту и уже сам мелом надписал новые цифры.
Метающий побледнел и вытер испарину со лба. Ему тут же принесли сельтерской.
Он стасовал карты и вновь стал отбрасывать – одну налево, другую направо.
Карты равномерно ложились то на одну сторону стола, то на другую: налево легла девятка, направо шестерка, налево – король, направо – десятка, налево…
– Есть! – воскликнул я, заражаясь странным неспокойствием души, приводящего к ознобу и сухости во рту. Все в величайшем волнении смотрели, как я медленно открываю свою карту. Наконец, она открылась. Повисло молчание. Даже музыка из соседнего зала, казалось, заиграла тише.
– Изволите получить, – банкомет прервал молчание и выложил на стол несколько ассигнаций по сотне тысяч.
– Благодарю вас, – я слегка поклонился и развернулся, чтобы уйти.
В это время рука Томского вцепилась мне в локоть.
– Вы безумец, если уйдете сейчас! – прошипел он, – я доверился вам единственно, чтобы удостовериться, что графиня открыла вам тайну! Она открыла вам тайну! И сейчас вы хотите уйти? Хотите уйти, зная третью карту? Безумец! Играйте! Это, возможно, единственный шанс, который дает вам судьба, играйте! Отдайте мне половину, остальное – ваше!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.