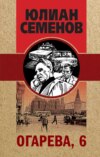Kitabı oku: «Петровка, 38», sayfa 3
Вторые сутки
Вышли на Читу
Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и – возле окна – Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога…
…У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма – это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков-сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор – и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких…» Комиссар тогда очень рассердился: «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все чтоб одинаково и привычно? Времена иные пришли. И слава богу, между прочим. Красоту надо в людях ценить, для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человецех». Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить он вечером, по обыкновению, долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:
– Берите меня к себе, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.
– Грамматика у тебя страдает, – сказал комиссар. – Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь – «терпеть ненавижу»… Учиться тебе надо… А что на своего брата взъелся?
– Есть причина, – сказал Голубев. – Их душить надо. Псы, нелюди, паразиты, стариков обижают, я их маму в упор видал.
Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма – уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».
Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.
– Ну, – сказал комиссар, – это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растолкуй – не понимаю…
– Я этого растолковать не смогу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю…
– Потому что был пьяный?
– Да.
– А я и не прошу, чтоб ты в себе – в пьяном – копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны.
– Бывают провалы памяти…
– Ты думаешь, у тебя был провал?
– Да.
– Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься… Громко можно загреметь, мил-душа, надолго.
– Так я уже…
– Уже ты дурак, – сказал комиссар. – Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть, серьезнейшая, между прочим, разница.
В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул.
«Волнуется старик, – отметил комиссар, – на Дон-Кихота похож. Такой же красивый… Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь… Именно – пронзительную».
– Разрешите, товарищ комиссар? – заглянув в кабинет, спросил Росляков.
– Прошу.
Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника.
– Садитесь, – сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя – как все люди, страдающие дальнозоркостью, – дактилоскопические таблицы, а потом, отложив все в сторону, попросил:
– Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.
– Я б его в стихах описывать не стал.
– «Социальный заказ» – такой термин знаешь? Проходили в школе?
– Проходили, – улыбнулся Ленька. – Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто накрашенный. На лбу, около виска, шрам. Большой шрам…
– Продольный?
– Да.
Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке:
– Этот?
– Этот, – сказал Ленька и поднялся со стула, – это Чита, товарищ комиссар.
Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом вразвалочку шел посредине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и громыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.
Костенко шел по правой стороне хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была окончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.
Заместитель председателя исполкома знал Костенко – он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами «Герцеговина-Флор».
– Знаю, знаю, – сказал он, – в ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ… Трудное у нас положение, очередь-то громадная…
– Я – первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других… Непорядок получается… Всякому терпению приходит конец – рано или поздно…
– Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении…
– У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой… Когда все-таки квартиру дадите?
– Зимой, – сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, – обязательно зимой.
– Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой…
– Я помню, – поморщился заместитель председателя и сухо закончил: – Можете, в конце концов, написать на меня жалобу.
Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью; он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.
– Мамаша, – спросил Садчиков лифтершу, – а у вас к-кабина вниз ходит?
– Еще чего! – ответила лифтерша. – Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а оттеда – одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас, хорошая лестница, не грех и спуститься пехом…
– Костик не уходил сегодня?
– Из восьмой квартеры? Так он тут не живет уж месяц.
– У Маруськи, наверное? – спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя.
– У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.
– Уж и д-дремлет, – сказал Садчиков и открыл дверь лифта. – А ты, Валя, пешочком, по лестнице, она у них покатая…
Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.
– Иди в д-домоуправление, – шепнул Садчиков Костенко, – пусть шлют понятых и слесаря – взламывать б-будем.
Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные.
Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанных на стене.
– Между прочим, одни женские имена.
– Это по твоей линии, – сказал Костенко. – В женских именах ты дока.
– Осторожнее на поворотах, учитель, – предупредил Росляков, – я стал обидчивым, работая под твоим началом.
– Ну, извини…
– Да нет, пожалуйста.
Они осмотрели всю квартиру – метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.
Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал:
– Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?
– Поручи это Вальке, – предложил Костенко. – Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком.
К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку.
В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.
Гипатов
Он сидел дома в голубой заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.
– Я из уголовного розыска, – сказал Росляков, – вот мои документы.
– Милости прошу…
– У вас в группе учился Назаренко? Константин?
– Назаренко?
– Да. Назаренко…
– Учился… Как же, как же…
– Вы его помните?
– «Кто не знает собаку Гирса?» – так, кажется, у Лавренева? Конечно, помню. Подонок.
– Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности…
– Из меня плохой доктор Ватсон.
– Да я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна.
– Столько лет прошло… Трудно, как говорится, вспоминать.
– А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните… Врагов… По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.
Гипатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» – строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но, как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика – в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно, они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами. «Духи-то, кажется, были «Кармен», – вспомнил Гипатов. – Почему-то все пьяницы любят женские духи». Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко – тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки.
– Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, – вздохнул Гипатов, – кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был или, наоборот, добрым гением – другое дело. Запоминают заметных. А он был вроде амебы – полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности…
– Плохо дело…
– А черт с ним, найдется, я думаю, а?
– Должен, конечно.
– Когда схватите – от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.
– Чего же он боялся?
– Силы… Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится – ну, такой, что на ногах не стоит, – он ему с ходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень, в сильных быстрей влюбляются, да и боятся их… А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок…
Шрезель
Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.
– Понимаете, – вдруг снова взорвался Шрезель, – так мне трудно вспоминать! Предлагайте какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке, – он усмехнулся и повторил: – Только по подсказке… Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.
– Почему?
– Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом… И глаза у него хорошие…
– Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.
– Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. На Западе он в моде.
Костенко был по-прежнему зол – он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал:
– В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно…
Шрезель засмеялся:
– За что?
– За Ламброзо. Он, знаете, как определяет грабителя-рецидивиста?
– Не помню.
– Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш «словесный портрет» еще раз.
– Неужели я такая образина? – спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: – Разве у меня нижняя челюсть выступает?
– Должен вас огорчить…
– О, погодите, у него внизу, вот здесь, – Шрезель открыл рот и показал два передних зуба, – были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли… Я могу фантазировать, если мне помогают! Еще вспомнил: он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что выходит на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.
– Что, вместе с ним убегали?
– Да что вы… Неужели я похож на тех, кто «вертит динамо»?
– А откуда вам известно про его штуки?
– Говорили в институте…
– Чего ж вы ему тогда холку не намылили?
– Не пойман – не вор.
– Тоже верно.
– Да, вот еще что… У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон – и навечно.
– А почему тогда его выгнали из института?
– Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лености ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится: я часто впадаю в какую-то духовную спячку – ничего не интересует, все мимо, мимо… Хочется сидеть, а еще лучше – лежать и не двигаться… У вас так не бывает? Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.
– А из какого общества?
– Я был далек от спорта.
– Как звали тренера, не помните?
– Нет, что вы… Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем…
– Они днем грабили, – сказал Костенко, – сволочи.
– У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать…
– Владислав Николаевич.
– Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.
Костенко улыбнулся:
– Благозвучно. Ему бы на сцену с таким именем.
Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.
– Очень мне с ним трудно, – вздохнул он, – жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница – не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!
– Она умерла.
– Знаете, просто чудесная была женщина. Тихая такая, добрая… Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке – крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам – немножечко гастроном. Люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание – это кухня… Я только на кухне, у плиты, по-настоящему воодушевляюсь, только там я смел в решениях, только когда варю борщок – я чувствую себя личностью… Мы на этой почве очень подружились с его матушкой…
– Вы у них часто бывали?
– Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться – это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.
– Смекалистый был парень?
– Да. Очень. Но я же говорил вам – леность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил.
– А деньги откуда?
– На галстук-бабочку?
– Нет. На красивую одежду?
– Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще очень был элегантный парень. Такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.
– За что?
– Никто не знает. До сих пор.
– Вы адрес Кодицкого помните?
– Конечно.
– Давайте-ка я запишу.
Кодицкий
– Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.
– А в чем д-дело? – поинтересовался Садчиков.
– В нас с ним.
– Вы мне мож-жете рассказать?
– Нет.
– Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупицы сведений о нем.
– Это ясно.
– Так что нам нужна ваша помощь.
– Я же говорю – я тут необъективен.
– А что вы можете рассказать о нем – даже необъективно?
– Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу – косвенного. А он про это ничего не знает… Так что – какой смысл?
– З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С «наганом» в кармане, ясно это в-вам? Он сейчас ходит по городу с оружием!
– Вы будете протоколировать то, что я скажу?
– Вы не х-хотите этого?
– Я требую, чтобы этого не было.
– Обещаю вам.
– Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.
Я тихо ушел из квартиры – они не слышали меня – и ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы… Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали абортов. И родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А ведь она была честным человеком. Честный же человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно – мне где-то очень трудно судить об этом – совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по горному Вилюю.
– Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.
– Зачем?
– Для будущего. И за п-прошлое.
– Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.
Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:
– Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я окончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю не больше месяца в году… Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.
– Большая экспед-диция? – спросил Садчиков.
Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:
– Там видно будет.
– Но Шрезеля вы с собой не возьмете?
– Аппарат у вас четко работает…
– Иначе бы за что деньги платить?
– Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.