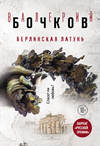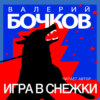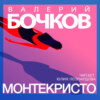Kitabı oku: «Шесть тонн ванильного мороженого», sayfa 3
Агностик
– Даже не однофамилец, – отвечал обычно Куинджи, вежливо улыбаясь. – Ни эллинов, ни татар в роду не имею, – сухо добавлял он, глядя в глаза собеседнику и энергично потирая сильные загорелые руки.
Такими руками можно запросто задушить человека, однако Ларс Куинджи предпочитал расправляться со своими жертвами более изящным и изобретательным образом – при помощи слов.
1
Все утро накрапывал нудный дождь, а после обеда поднялся северный ветер и, бодро растолкав серое стадо туч, вмиг расчистил октябрьское небо. Оно оказалось ярким и синим, словно свежеокрашенным.
С верхних этажей «Кондор-Трайбеки» распахивался бескрайний горизонт, и тевтонское слово «ландшафт» теряло оловянную тяжесть и наполнялось свежим, воздушным смыслом. Прямо на восток, за ажурным мостом, как на ладони лежал весь Бруклин: кубики красных домов на Краун-Хиллс, мертвые трубы заброшенной фабрики Кристи, справа тянулись и исчезали в рыжей листве Сансет-парка плоские, покрытые варом и утыканные спутниковыми тарелками крыши китайского квартала. Над ними кругами носились голуби, а дальше сквозь дымку проступало «чертово колесо» на Кони-Айленд. При желании можно было даже различить горошины кабинок. За колесом угадывался океан.
Чико, девятнадцатилетний мойщик окон, тихо насвистывал Вésame mucho и разглядывал «чертово колесо». Оно казалось неподвижным, но на самом деле едва заметно вращалось. По горизонту, словно мишень в ярмарочном тире, пополз прозрачный силуэт океанского судна. Разобрать, под каким флагом корабль, оказалось делом дохлым. Зазевавшись, Чико забыл пристегнуть карабин. Сорвавшись и пролетев почти полторы сотни метров, он упал на крышу экскурсионного автобуса из Алабамы.
Ларс Куинджи только что вышел из душа и как раз выбирал галстук, когда услышал полицейские сирены. Ларс, с мокрыми волосами, голый и загорелый, прошлепал босиком на балкон. Не касаясь перил, вытянул шею, пытаясь заглянуть вниз. С высоты сорок второго этажа улица выглядела обычно – желтые букашки такси, белые гусеницы автобусов, муравьи-пешеходы. На соседней башне, покачиваясь на ветру, висела пустая люлька. Десять минут назад Ларс с завистью разглядывал парня, бесстрашно орудующего длинной шваброй, у него самого потели ладони от одной мысли оказаться в хлипкой корзинке на такой высоте.
Ларс поежился и вернулся в спальню. Выдернул лимонный галстук, прихватив двумя пальцами, приложил к голой груди. Пожевал губами, глядясь в зеркало, после одобрительно кивнул и бросил галстук на кровать. Галстук золотым угрем упал в косой солнечный луч, деливший пол спальни и кровать по диагонали.
Куинджи было за пятьдесят. Поджарый и жилистый, он и сегодня мог влезть в джинсы, которые носил в университете. У него было породистое, чуть лошадиное лицо, матовый крутой лоб с залысинами, хищные хрящеватые уши и крепкий нос с высокой горбинкой, которая всегда обгорала на солнце. В четыре года у него обнаружили астму. От лекарств толку не было, он кашлял и задыхался. Как утопающий, вцепившийся в спасательный круг, Ларс ни на секунду не расставался с ингалятором, даже во сне он сжимал в кулаке спасительный баллончик. Через год, сменив с десяток врачей, мать разыскала какую-то знахарку-хорватку, которая посоветовала давать Ларсу свиную кровь. Каждое утро мать приносила ему стакан свежей крови из мясной лавки. Потом его на год увезли в Палермо. К августу астма прошла – итальянский климат помог или свиная кровь, сказать трудно, но Ларса до сих пор передергивает от того сладковатого, ржавого привкуса. От Палермо в памяти осталась какая-то слепящая рябь, лазоревые пятна и Поко-Пикколо – портовый дурачок, навсегда вселивший в Ларса ужас сойти с ума. Он донимал мать расспросами, и та, по простоте душевной, ляпнула, что таким манером Господь карает непослушных мальчиков. Что и говорить – босоногий Пикколо надолго стал главным героем ночных кошмаров маленького Куинджи. А после, в зрелые годы, уже называя себя агностиком и посмеиваясь над религиозными ритуалами, бесами и загробной жизнью, он часто и всерьез задумывался над тем, в каких же потемках и по каким сумрачным долинам блуждает разум безумца.
Ларс с досадой оглядел просторную спальню, светлое окно во всю стену, яркое небо, макушки небоскребов Уолл-стрит, которые, как недомерки, привстав на цыпочки, пытались заглянуть в комнату.
«Вот ведь глупость, – раздраженно подумал Куинджи, – угробить чертову уйму денег и не сметь выйти на балкон!»
Он патологически боялся высоты. На смотровых площадках и мостах у него кружилась голова, ноги подгибались и становились ватными, накатывала дурнота. Он знал наверняка, что никогда и ни за какие деньги не прыгнет с парашютом. Да он и не собирался. До переезда в Трайбеку он относился к своей акрофобии снисходительно, как к нелепой причуде психики, в целом устойчивой и рациональной.
Куинджи скучал по своему прежнему жилью – допотопному особняку на Вест-сайд, кривобокому и узкому, словно стиснутому с боков двумя такими же домами-пенсионерами. Фасад, выложенный диким красноватым камнем, был похож на поджаристое овсяное печенье. В сумрачных комнатах пахло пылью и мастикой, лестницы с резными перилами круто взбирались вверх и скрипели на все лады. Как ему не хватало этого скрипа! Камин, с черным, как ад, зевом за кованой решеткой, кожаные кресла-великаны, беспощадно убаюкивающие свои жертвы, толстые, вытертые ковры из неведомых восточных стран – Куинджи, закрыв глаза, запросто мог вспомнить каждую царапину, каждый узор.
– Вот ведь глупость, – громко произнес он, глядя в зеркало; зазеркальный Куинджи не спорил.
Причина переезда была нелепа, Ларс осознавал это, но поделать с собой ничего не мог: однажды, проснувшись среди ночи, он с тошнотворной ясностью представил себе, как стареет. Как он стремительно и необратимо дряхлеет вот на этой самой кровати, похожей на древний катафалк, а из тусклой бронзы рам, насмешливо топорща тараканьи усища, на процесс распада взирают зализанные антикварные господа в кружевных воротниках и морские пейзажи с одинокими кораблями в бурных волнах. Ему послышалось даже, что особняк по-стариковски вздыхает и сердобольно кряхтит трухлявыми балками, мол, ну что поделаешь, брат, все там будем.
С той ночи Куинджи стало казаться, что дом затеял состарить его, злокозненно обволакивая пыльной паутиной уюта. Вырваться из сонного плена турецкого дивана или мягкой хватки плечистых кресел становилось все трудней. Арестантские полоски жалюзи ложились на пол при закате, рассветная муть встречала зловещим крестом оконного переплета на потолке. В любой, едва приметной трещине на стене, чешуйке облупившейся краски дверной рамы, в сладковатом запахе гнилой воды в цветочных вазах Куинджи чудился приговор. Он был готов поклясться, что его тело стремительно стареет вместе с домом и что он физически ощущает этот процесс. Ларс, холодея, вглядывался в зеркало, а за его спиной хохотали и гримасничали тени.
Избавление пришло внезапно: Тима Кларка в конце концов переманили в голливудский филиал, и он великодушно уступил свой пентхаус в «Кондоре» Ларсу Куинджи. Две башни в Трайбеке уже достраивались, сдача была намечена на август. Спортивный клуб, SPA с ловкими таиландскими массажистками, бассейн, скоростные лифты, чуть ли не каррарский мрамор и скандинавский дизайн, но главное – вид: верхние этажи разошлись еще до закладки фундамента. В строительной конторе Куинджи разглядывал глянцевые каталоги, нежно гладил образцы черного камня и зеркального паркета; после, улыбаясь, подписал контракт и тут же внес аванс.
2
Если б не Ивонна, Ларс ни за что не согласился бы пойти на эту премьеру, совсем не его статус – какая-то захудалая труппа то ли из Польши, то ли из Литвы, фамилию режиссера, состоящую из почти одних согласных, невозможно было не то что запомнить – выговорить. Наверняка будут умолять написать рецензию в «Таймс» или «Нью-Йоркер».
«К черту пошлю! Решительно и бесповоротно, – ворчал Ларс, выбирая запонки. – Сам факт моего присутствия на спектакле уже выводит этот балаган на незаслуженно высокий уровень. С них и этого хватит. Не говоря уже об убитом вечере».
Он, проходя на кухню, щелкнул пультом, телевизор включился и приглушенно забубнил. На канале NYОne шли местные новости, с вертолета показали дом Ларса, соседнюю башню, пустую люльку. Потом возникла энергичная мулатка в интеллигентских очках и с микрофоном: она тараторила, кивая на красный автобус с надписью «Алабама – родина храбрых». За ее спиной сгрудились прохожие, сновали медики и полиция.
Ларс вытащил из холодильника оранжевую потную бутыль сока, сделал пару глотков из горлышка.
– Хорош трепаться, погоду давай! – недовольно крикнул он мулатке, которая как раз пыталась заарканить какого-то доктора, воинственно тыча в него микрофоном. Ларс возмущенно защелкал по каналам, ничего не найдя, быстро выдохся и выключил телевизор.
Считая себя демократом, Куинджи запросто ездил в подземке, пил в жару дешевый «Бадвайзер», бегал трусцой вдоль Гудзона в застиранном спортивном костюме. Тот факт, что он влиятельный критик (иногда его называли «самым влиятельным», он пожимал плечами и кивал: «К вашим услугам!») и что его голос, пожалуй, решающий в совете директоров «Девятого канала», лишь добавлял его демократизму пикантности. Он любил поболтать с таксистом, по-свойски схлестнуться с барменом или официантом на тему бейсбола. Он всегда оставлял щедрые чаевые, не столько по причине природной расточительности, сколько из кармических соображений.
С кармой дела обстояли неважно, шансы на рай были невелики: лишь в последние годы Ларс стал помягче и пообходительней, а в начале карьеры он подписывал критические статьи псевдонимом Бритва. Псевдоним соответствовал и форме, и содержанию. Сегодня эти статьи зубрят студенты на факультетах журналистики.
Куинджи с ходу уяснил, что критиков никто не любит, поэтому и не пытался понравиться. Главное – чтоб запомнили. Это для начала.
Тогдашняя театральная критика отличалась вегетарианским простодушием. Его маститые коллеги пересказывали содержание пьесы, вяло поругивали или флегматично похваливали режиссера, а в конце перечисляли фамилии актеров. Критикессы напирали на костюмы и декорации, стервы непременно сообщали, что Джульетте за сорок, а Медея – жена режиссера. Такое называли «острой критикой», и это считалось почти скандалом.
Куинджи смерчем ворвался в эту затхлую богадельню, рухнул метеоритом в лесное болото. Мужья, краснея от хохота, вслух читали за ужином его статьи, офисные остряки заучивали трескучие пассажи, коллеги-журналисты пытались подражать стилю, воровали звонкие глаголы и сочные прилагательные. Бритва стал известен и почти знаменит.
Появились деньги. Все складывалось просто великолепно: ведь тот зануда, который утверждает, что слава и деньги не приносят счастья, как правило, не обладает ни тем ни другим.
Цель оправдывает средства – Куинджи не скромничал. Эрудит, трудяга и почти полиглот, он днями просиживал в архивах и библиотеках, а ночами по десять раз переписывал статью, снова и снова, до тех пор, пока каждое слово не било в яблочко. После его рецензии старик Сазерленд свалился с инсультом. Ларс в интервью «Третьему каналу» заявил, что искусство требует жертв, и после еще что-то добавил по-латыни, равнодушно почесывая подбородок.
Он стал часто появляться в разных программах. Ведущие его уже побаивались, особенно после того, как Куинджи в прямом эфире разорвал в клочья задиру О’Райли. После еще минут пятнадцать задавал ему вопросы, как двоечнику, а под конец встал и сказал, что хотя передача еще не кончилась, у него нет ни малейшего интереса тратить время на беседу с невеждой и дураком, и посоветовал телезрителям тоже заняться чем-нибудь полезным. Извинился и вышел из студии.
3
У Ивонны не было ноги, и это здорово усложняло дело – так бы Ларс давно уже ее бросил. По крайней мере, именно этим он оправдывал непомерно затянувшиеся отношения, которые он толком не мог даже классифицировать. Ну да, он с ней спал, но это тоже ни о чем не говорило.
Ивонна обладала редким даром: каждое слово, жест, улыбка, даже и не улыбка – тень, улыбалась она скупо, лишь бровями, само ее присутствие ощущалось как благодеяние, как милость. Ларса бесило ощущение задолженности, ощущение, что его облагодетельствовали, не спросив согласия.
Она почти не хромала: потеряла ногу в семь лет, с ее слов – угодив под газонокосилку на родительском ранчо где-то в окрестностях Цинциннати. Ивонна научилась ловко ходить на протезе, ее походка напоминала плавный танец, с едва заметным акцентом в нечетной доле. Эта синкопа придавала ей некоторый шарм, если, конечно, не знать, что левая ступня сделана из пластика телесного цвета.
Когда Куинджи первый раз увидел протез, он сразу и не понял, даже сморозил какую-то глупость про грязную пятку – обе ноги торчали из-под простыни, у искусственной подошва казалась темней, и пальцы были спаяны вместе, как кусок мыла. Кто мог вообразить, что у этой гордячки, которой он домогался с непонятной даже ему самому настойчивостью почти месяц, окажется такой дефект?
Куинджи остановил выбор на темно-синем двубортном пиджаке и серых твидовых брюках. Он думал о том, что хорошо бы сейчас плюнуть на хромоножку, рвануть в «Ла Гуардию», оттуда – первым рейсом на Сент-Джон, нанять там яхту, а ночью, развалившись на палубе, пить сладковатый местный ром и глазеть в черное звездное небо. Такие звезды бывают только на экваторе: сперва видны самые яркие, после проступают потусклее, а под конец, когда глаза привыкнут к темноте, вдруг открывается черная бездна, усыпанная едва различимой звездной пылью, живой и подмигивающей. И такая восторженная жуть берет, будто узнал самую жгучую тайну на свете. А утром, совсем рано, когда солнце только-только…
Распахнулась входная дверь, влетел сквозняк. Вместе с ним вошла Ивонна.
– Голый! – с презрительным возмущением констатировала она, звонко шлепнув себя по бедру лайковыми перчатками брусничного цвета. – Мойщик там убился, крышу автобуса насквозь пробил.
Ивонна опоздала родиться лет на сто. В сегодняшней наскоро скроенной Америке она казалась насквозь пропитанной траурным югендштилем, берлинским декадансом кануна хрустальных ночей и высокомерным пренебрежением ко всему румяному и здоровому. Бронзовые виньетки массивного ошейника с аметистами повторяли пренебрежительный изгиб ее бровей, ей действительно было наплевать на то, что вы о ней думаете, и она этого не скрывала. Куинджи никогда не испытывал к женщине подобного чувства – какой-то болезненной тяги пополам с ненавистью, жутковатой гремучей смеси, приправленной хорошо замаскированным страхом, в котором он не признавался даже себе. Это напоминало его проклятую высотобоязнь. И было похоже на ощущение, когда, закрыв глаза, ведешь рукой по шершавой стене, боясь напороться на ржавый гвоздь.
В такси Ивонна тут же достала телефон и стала проверять почту, выставив вверх костлявое колено в молочном чулке. Ларс от скуки пытался разобрать фамилию шофера на карточке – сквозь мутный пластик проступало нечто славянское и непомерно длинное. От Ивонны пахло чем-то пряным, приторным, Ларс, гордящийся среди прочего и своим обонянием, безуспешно пытался определить запах, равнодушно разглядывая кирпичные стены, разрисованные уродливыми граффити.
Уже проехали Колумбийский университет – мимо проскочили почти царские ворота с колоннами и львами, над мельтешней хищных пик ограды викингами пронеслись рыжие клены. Въехав в Гарлем, свернули с Бродвея, тут же влетели в колдобину, шофер непонятно, но с душой выругался.
Больные деревья, кособокие машины у тротуара, тусклые лица – все выглядело выгоревшим и пыльным. Зачастили облезлые вывески на испанском.
– Долго еще? – тихо спросил Ларс, чуть тронув локоть Ивонны.
– Уже… почти… там, – с расстановкой проговорила она, не отрываясь от экрана.
– Ну и дыра… – пробормотал Ларс себе под нос, зло отвернувшись к окну.
Пунцовый кусок заката промелькнул в щели между домов, ослепив на миг, и тут же окрасив все вокруг темно-фиолетовым.
«Все, хватит! Сегодня же! – Ларс сунул кулаки в карманы брюк. – Сразу же после этого дурацкого балагана! К чертовой матери! Соплячка…»
4
Опасения Ларса оправдались – место оказалось настоящей дырой. Когда-то здесь располагался отель, очевидно, не без претензий, на облупившемся фасаде по гвоздям, к которым крепилась вывеска, можно было разобрать название – «Ницца». Судя по всему, последняя волна нелегальной эмиграции из Мексики, наводнившая соседние кварталы, угробила заведение. Ларс тоскливо прикинул, что лет через тридцать вся Америка превратится в нечто подобное: трухлявая «Ницца», а вокруг – крепкий дух жареного лука, треньканье гитар и пыльные лачуги, набитые коренастым, веселым народцем.
«А я буду лежать на палубе и глазеть в звездное небо», – подумал он, распахивая перед Ивонной тяжеленную дверь.
Противный запах обдал их, разило намокшим старьем и скипидаром.
«Красят они тут, что ли…» – брезгливо ступая по грязному мрамору, подумал Куинджи.
На электричестве явно экономили, желтые лампы горели вполнакала, колонны, толстые и грязные, как слоновьи ноги, уходили вверх и что-то там подпирали. Потолок лишь угадывался в темноте, на стенах проступали аляповатые приморские виды, скорее всего, именно Ниццы, с одинаковыми пальмами и треугольными парусами на горизонте. Пожухнув, фрески неожиданно приобрели выигрышный античный вид.
У стен топтался какой-то люд, поодиночке и группами. Через распахнутую дверь было видно, как бритый наголо здоровяк в белой рубахе переставляет на барной стойке поблескивающие бутылки. Из той же двери появился долговязый старик. Замер, вытянув индюшачью шею, огляделся и, чуть подпрыгивая на тощих ногах, бодро направился к Ларсу.
– Такая честь! – хватая ладонь Куинджи обеими руками, холодными и сухими, проговорил он актерским баритоном, неприятно приближая свое дряблое лицо. – Шталмейстер труппы Отто Кранц.
При этом он подмигнул Ивонне и франтовато щелкнул каблуками.
Ларс с брезгливой аккуратностью вытянул кисть из стариковой хватки, сунул в карман. Хотелось вымыть руки. Все было нехорошо, жутко. Куинджи кивнул, притворно зевая, отвернулся, чтобы скрыть гадливое выражение.
На старике была тесноватая фрачная пара, к лацкану приколот какой-то маскарадный орден с фальшивым рубином и скрещенными мечами. Шталмейстер Кранц был высок и костляв, впалые виски в старческих пятнах, белые адмиральские бакенбарды, глаза рачьи, вокруг темные круги.
Старик важно пыжился и тут же угодливо кланялся, складываясь, как столярный метр, при этом рот у него кривился вправо, а шея вытягивалась, как у черепахи, так что был виден серый край нечистого воротника. К Ивонне он не обращался, лишь изредка поглядывал, моргая и пуча глаза.
– Современного зрителя не устраивает традиционный театр, современный зритель желает новых ощущений. – Старик презрительно выпятил сизую губу с фиолетовой горошиной, он явно не испытывал симпатии к современному зрителю. – Им катарсис подавай, да такой, чтоб до потрохов пробрало. До костного мозга чтоб!
Ивонна хмыкнула, а шталмейстер довольно ухмыльнулся и сладострастно повторил:
– До мозга чтоб!
Старик перевел дыхание и, чуть не захлебнувшись от пафоса, продолжил:
– Тело! Тело есть мера всех вещей и истина в чистом виде, мой дорогой мистер Куинджи! Слово написанное – ложь, слово произнесенное – ложь вдвойне. У слов одна цель – извращать, маскировать, приукрашивать. Короче, лгать. Не так ли, мистер Куинджи?
Ларсу казалось, что над ним издеваются. Он слушал, кивал, сухо улыбался, стиснув зубы. Старик взглянул в глаза, по-волчьи ощерился и азартно продолжил:
– Движение, жест – вот критерий истины, ибо тело есть носитель правды. Паганини, играя на скрипке, уже лукавит, лукавит непроизвольно, веруя, что через него говорит Бог. Наивно забывая, что между ним и аудиторией возникает посредник – скрипка, вносящая неизбежное искажение в божественный текст послания.
Некто юркий с собачьим взглядом поднес напитки. Куинджи хотел отказаться, но, представив, как старикан будет уламывать его, плюнул и взял высокий стакан. Оказалось что-то» цитрусовое с граппой. Тут же появилась проворная муха, настырно пытавшаяся сесть то на край стакана, то на рукав.
Старик, словно вспомнив что-то, схватил Ларса за локоть:
– А вот такой вопрос, не сочтите за бестактность, господин Куинджи, философского свойства: что для вас важнее – выиграть, незаметно смухлевав, или же проиграть, честно соблюдая все правила? А?
Ивонна, отгоняя муху, фыркнула и проговорила, глядя в нарисованные на дальней стене морские просторы:
– У мистера Куинджи косточки врагов похрустывают под каблуком. Что январский снежок. Идет и собой любуется.
Ивонна обожала говорить подобные гадости, особенно прилюдно. Ларса удивило, что он даже не рассердился. «Все верно, к черту! Уже не важно, пусть болтает, – подумал он. – Сегодня же, сразу же после балагана!»
В этот момент Отто Кранц ловким, кошачьим жестом поймал назойливую муху, молниеносно сцапав ее жменею с плеча Куинджи. Поднес кулак к уху, загадочно улыбаясь, прислушался, а после вдруг сунул муху в рот и проглотил.
Ларса чуть не вырвало.
Кранц близоруко моргнул и простодушно произнес:
– Щекочется.
5
Ударил гонг. Тяжелый медный звук траурно поплыл по фойе. Публика потянулась к распахнутым дверям.
Прежде здесь, должно быть, располагался ресторанный зал. С высокими колоннами и тяжелыми портьерами цвета запекшейся крови, циклопическими коваными люстрами на цепях. Сейчас люстры не горели, пыльные столы были сдвинуты в дальний угол рядом с полукруглой сценой, освещенной сверху слабым красноватым прожектором. Стулья, кое-как расставленные по сумрачному залу, сформировали кривые ряды. Паркетный пол даже не подмели.
«Если режиссер ставил задачу вызвать чувство омерзения еще до начала спектакля, то он успешно с ней справился», – подумал Куинджи, садясь в большое кресло, церемонно указанное Кранцем. Ивонна придвинула стул, села рядом, закурила и, стряхивая пепел на пол, принялась разглядывать зрителей. Те безучастно и молча, как статисты, рассаживались. Публики оказалось мало – большинство мест остались пустыми.
Ларс крутил в руках стакан, стекло стало теплым и липким, от приторной смеси слегка мутило. Он поставил стакан на пол, пристроив к ножке кресла. Теперь липкими казались и пальцы, и ладони, опять мучительно хотелось вымыть руки.
Свет на сцене погас. В темноте мерцающей точкой краснела сигарета Ивонны. Слева шумно дышал старик, от него тянуло чем-то кислым.
«Мухами», – угрюмо подумал Куинджи, ощущая растущее раздражение. Сидеть в полной темноте казалось глупо и унизительно.
– Это что? – сердитым шепотом спросил он.
– О! – скрипнув стулом, тут же отозвался старик. – Это Шекспир!
«Новаторы хреновы!»
У Ларса вдруг закружилась голова, непроглядная темень, утратив форму зала, постепенно стала вытягиваться, разрастаться, постепенно превращаясь в бездну. Он вцепился в поручни, зажмурился, ощущая, как сжалось сердце и перехватило дыхание. Из живота, медленно поднимаясь вверх к горлу, подкатила волна ужаса, как тогда, в детстве, когда, заходясь в кашле, он был уверен: еще мгновенье – и он задохнется. Удивительно, Ларс исцелился от астмы тысячу лет назад, а страх смерти, испытанный тогда, навсегда притаился где-то внутри, не тускнея и не слабея.
Снова ударил гонг. На сцене зажглась жидкая красная подсветка. Сознанию оказалось достаточно такой ничтожной зацепки, чтобы расставить все по своим местам – появился твердый пол, обозначился не столь уж высокий потолок. Горло отпустило, Ларс осторожно вдохнул. Мокрая рубаха прилипла к спине и противно холодила кожу. Мутный пунцовый свет вдруг напомнил Ларсу о детском увлечении фотографией: он тогда соорудил в кладовке настоящую лабораторию – с черным шестикратным увеличителем на штанге, большими кюветами и красной лампой на витом шнуре. На фотобумаге, опущенной в раствор, проступали в красном мареве какие-то неясные пятна, которые волшебным образом постепенно собирались в знакомое лицо или привычный пейзаж.
На сцене творилось нечто подобное – в вязкой мерцающей красноте скорее угадывалось происходящее, разум, ухватившись за узнаваемый нюанс, тут же дофантазировал картину. Сначала Ларсу почудился гигантский паук, он перебирал лапами и покачивался в такт глухому и мерному барабану – казалось, что где-то совсем далеко проходит парад и оттуда доносится утробное «бух-бух-бух». Потом паук распался – четыре мима, изогнувшись мостиком, по-крабьи расползлись по углам сцены. Из темноты в центр величаво выступил, почти выплыл, некто в короне. Он не отбрасывал тени, и Ларс с удивлением заметил, что ноги актера не касались пола.
– Это знаменитая «Мышеловка», – скрипнув стулом, восторженно шипел сзади Кранц. – Убийство Гонзаго.
Король тем временем растянулся на сцене, пристроив корону на животе. Крабы, помедлив, осторожно начали сжимать кольцо вокруг спящего. Барабанный бой нарастал, будто приближался. К нему добавилось гулкое эхо, казалось, что невидимый парад переместился в глубокое ущелье. Крабы обвили спящего, клубок тел забился в конвульсиях и вдруг замер. Из узла человеческих тел вытянулась вверх рука с короной.
– Где же принц? – тихо спросил Куинджи с нотой сарказма, откинув голову назад.
– Я здесь, – неожиданно ответила Ивонна.
– Ты? – Ларс резко повернулся к ней, лица было не разглядеть, лишь красный блик в волосах.
– Как? Вы не знали? – встрепенулся старик, точно испугавшись. – Госпожа Ландау… ну как же… «Терра Берлиника» прошлого года, «Золото Рейна» в Штутгарте, в Лондоне с Редгрейв, премия Лоуренса Оливье?
Куинджи давно уже не следил за театральными новостями – да и не генеральское это дело, критические статьи писал за него дрессированный молодняк, Ларс слегка редактировал текст и ставил подпись. Управление каналом и потасовки в совете директоров отнимали все время. Фамилия Ландау напомнила ему какой-то давний скандал, что-то связанное с семейной драмой – то ли убийство, то ли самоубийство. Ларс даже вспомнил имя – Максимилиан, точно, Максимилиан Ландау. Режиссер Ландау. Куинджи разгромил его «Тартюфа», спектакль сняли сразу после премьеры. Так, значит, Ивонна…
– Роль Гамлета и раньше успешно исполняли женщины, – с суетливым азартом влез старик, словно боясь, что его перебьют, – божественная Сара Бернар…
– …и тоже без ноги, – брякнул Ларс, цепенея от сказанного и не понимая, как такое могло сорваться у него с языка.
Ему показалось, что темнота справа набухла и налилась высоковольтным электричеством, как грозовая туча. Боковым зрением он увидел, что Ивонна не спеша стянула перчатку с правой руки, эта голая рука показалась Ларсу бледной и безжизненной, как у манекена. Ивонна небрежным жестом бросила перчатку на пол, потом, щелкнув чем-то у запястья, отделила правую кисть и аккуратно опустила бледно-розовый протез рядом с ножкой стула.
6
Барабан уже гремел во всю мощь, бил под дых, пробирая до мурашек. Сердце, попав в резонанс, беспомощно прыгало в грудной клетке и бухало в такт с барабаном.
Тем временем на сцене клубок человеческих тел превратился в многоногое-многорукое чудище, которое медленно сползло в зал и, раскачиваясь, направилось прямо к Ларсу. Одна из рук держала острозубую корону.
В красноватом полумраке зала возникло движение: зрители вставали и неспешно приблизились к Куинджи. Одни злорадно скалились, другие были деловито скучны. У некоторых вместо голов из воротников торчали рыбьи головы. Окружив, они подняли его вместе с креслом. Кто-то водрузил корону ему на голову. Ларс хотел вырваться, он решил сопротивляться, но по телу разлилась болезненная слабость, пробил холодный пот. Он почти терял сознание.
– Вино отравлено! Не пей вина, Гертруда! – с гадким смехом, кривляясь, прокричал снизу шталмейстер Кранц. Или это был не Кранц. Или это вообще только померещилось Ларсу.
Его несли, несли неспешно, будто саркофаг, будто жертвенное животное в нелепом и страшном языческом обряде. Куинджи, слабея, цеплялся за поручни кресла, красное марево раскачивалось и приближалось. Наконец кресло опустили на сцену. Куинджи поднял голову, прямо над ним горел тусклый красный софит. Взглянул вниз. Зал зиял слепой ямой, там колыхались щупальца и мокро мерцали рыбьи морды. Ларс был почти уверен, что разглядел Ивонну. Ивонна улыбалась и обмахивалась протезом правой кисти, как веером.
Барабан смолк. Одновременно потух софит, Ларс услышал, как, тихо потрескивая, остывала лампа над головой. В нарастающей темноте проплыли красные круги, потом погасли и они. Куинджи ощущал, как в густеющем мраке происходит какое-то движение. Он уловил странные метаморфозы, не услышал, но, подобно летучей мыши, запеленговал это. Чувство пространства обострилось, ему снова почудилось, что стены, пол и потолок медленно тронулись и начинают разгон. Внизу, раскрываясь, разрасталась душная мгла, предгрозовая, липкая. Ларс судорожно сглотнул, еще раз. Во рту стало сухо, в горле першило, подступал спазм. Судорога острой болью сдавила грудную клетку. Ларс испуганно зажмурился, чувствуя, как на лице выступил пот. «Все, конец!» – метнулась мысль. Куинджи, сжав поручни, вдавил свое тело в кресло. «Спокойно, спокойно… надо успокоиться, – уговаривал он себя. – Надо успокоиться».
Ларс начал глубоко и мерно дышать, пытаясь представить пол, крепкий деревянный пол из ладных струганных досок. Поначалу пол зыбился, шел мелкой рябью, топорщась сучками и неровными стыками. Постепенно волнение улеглось, и пол застыл.
Воздух посвежел, откуда-то пахнуло морем. Послышался тихий звон, словно кто-то пересыпал мелкие ракушки из ладони в ладонь. Донеслись едва слышимые детские голоса, они кого-то звали или дразнили. Ларсу удалось разобрать. Он разглядел и самого Поко-Пикколо – тот вполоборота стоял на границе светового круга, за которым гладкий дощатый пол тонул в непроглядной саже. Дурачок улыбался и манил, манил Куинджи рукой. Ларс с опаской привстал, осторожно выпрямился, сделал шаг. Еще один. Пикколо отступил во тьму. Ларс теперь различал его тщедушный силуэт, чернота уже не казалась такой непроглядной. Тощая фигурка удалялась, Ларс разглядел арку, за ней дверь. Пикколо радостно помахал рукой и исчез в проеме.
7
Там был коридор. Пол, бетонный и пыльный, шел под уклон, так что ноги переступали сами собой, ведя Куинджи от одного тусклого фонаря до другого. Бетонные плиты потрескались и лежали неровно, Ларс запнулся, упал, растянувшись во весь рост. Боль обрадовала его, он слизнул кровь с ладони. Вкуса он не ощутил, кровь оказалась пресной, как вода. Он помотал головой, зло сплюнул и, держась рукой за стену, побрел дальше.