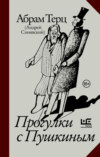Kitabı oku: «Лекции по русской литературе», sayfa 3
Среда «оттепели»
[Хорошо, если бы] студенты уже начали думать о возможных темах своих сочинений по семинару и мы могли бы вместе это обсуждать и решать, кому что писать. Вот, например, Нэтэли Крэмер уже выбрала себе тему, и, мне кажется, очень интересную. Эта тема связывает Марину Цветаеву и современную ее продолжательницу Беллу Ахмадулину, известную поэтессу советскую. Я буду говорить сегодня о том, как возникала та среда, которой не хватало этим первым бунтарям, о которых мы говорили в прошлый раз, то есть тем писателям, которые появились в период «оттепели» из числа сталинской еще гвардии, все эти Алигер, тот же Симонов – [то] поколение. Вот мне вспоминается… я буду часто приводить примеры из собственной жизни, даже не примеры, а просто такие… flashbacks (смеется).
Вспоминается мне осенний день пятьдесят пятого года в Ленинграде, я был студентом мединститута и шел через Неву по Дворцовому мосту; был чудный осенний день ленинградский, летели тучи, ветер был… И вокруг какие-то бежали люди из университета и в университет, видимо, большинство из них сбежало с лекций и шло смотреть появившиеся в кинотеатрах фильмы типа «Рим, 11 часов», «Под небом Сицилии» и так далее – тогда очень моден был итальянский неореализм. И вот я шел и вдруг увидел справа, то есть ближе к морю на Неве, что-то огромное, какой-то гигантский корабль совершенно необычных очертаний. Обычно на Неве не стояло таких кораблей больших. И за ним еще четыре маленьких корабля. Они стояли все на якорях, на бочках, и на них развевались британские флаги. Это эскадра Royal Navy пришла в Ленинград с дружеским визитом9. Это было совершенно уму непостижимо, еще вчера, еще в позапрошлом и даже в прошлом году мы этих людей считали своими заклятыми врагами! И вдруг стоят эти корабли, которые пришли к нам с дружеским визитом. И город заполнился british sailors. Это был совершенно невероятный… опыт, люди были в таком возбуждении, не могли понять, что происходит. Видимо, КГБ и милиция ленинградская пришли в полный конфуз, они не знали, что делать. Я помню прекрасно, как шли с этого авианосца «Триумф» (а в советском флоте тогда еще не было таких огромных кораблей) лодки, полные матросов, они ехали гулять по городу. Набережная была полна девчонок ленинградских, они визжали от нетерпения, чтобы захватить этих моряков. И когда матросы выходили на берег, девчонки просто их расхватывали, и матросы исчезали, понимаете? (Смех.) Это было поразительно, потому что эти девчонки-то выросли при Сталине, они боялись писать в анкетах, что у них кто-то был на оккупированной территории, это считалось преступлением, уже на тебя клало пятно. А тут вдруг в полном, немыслимом, жутком восторге матросов расхватывали и куда-то их утаскивали, и я так думаю, что немало нелегальных англичан родилось после этого в Ленинграде (смеется). Сейчас, наверное, этим нелегальным англичанам, которые даже не подозревают, что они англичане, по двадцать пять лет, даже больше.
Я это рассказываю, чтобы описать ту необычную, невероятную весну, которая происходила в нашей жизни, как все ломалось, как все сдвигалось и как возникало заново. Помню, что во время стоянки этой эскадры вдруг началось наводнение в Ленинграде. Мы с товарищами шли на танцы – тогда очень увлекались танцами, мы уже в пятницу узнавали, где играют модные оркестры, – шли по Большому проспекту Петроградской стороны по колено в воде. Большой проспект был весь затоплен водой, и, чтобы погреться, мы зашли в ресторан Чабанова, который присутствующий тут один, значит, господин знает хорошо (о ком это?). И там играл оркестр слепых евреев, три еврея играли на скрипках. И там сидели четыре английских матроса, пили водку. Все начинали подогреваться, развязывались языки, и какие-то русские подошли и стали петь It’s a long way to Tipperary, по-русски, и оркестр слепцов подыгрывал. Матросы, потрясенные: откуда эта британская песня в этом самом городе?
Вот так каждый день приносил что-то новое, открывались ворота на Запад. Шли выставки какие-то, я уже говорил, что почему-то немыслимо жаркие споры вспыхивали вокруг живописи, вокруг абстракционизма, – абстракционизм тревожил умы в Советском Союзе больше, чем наличие, предположим, копченой колбасы. Подавай нам абстракционизм или не нужно нам абстракционизма – эта тема больше волновала, чем наличие колбасы.
Помню, Ив Монтан приехал, приехала американская труппа Everyman Opera10 (сейчас, по-моему, она не существует) с оперой Porgy and Bess. И для нас, молодежи того времени, это всякий раз было открытие. Мы прямо неделю простаивали в очереди для того, чтобы попасть на какого-нибудь иностранного гастролера. Но никто этим не тяготился, это уже смахивало на какого-то рода фестиваль, какой-то спонтанный акт веселья, ночью жгли костры, пели вокруг костров. Записывали себя там – по сотням отбирали, потом выбирали командира сотни, надо было приходить три раза в день и выкрикивать фамилии твоей сотни. И все время шутки возникали: ты в свою сотню записывал, предположим, Евгения Онегина, Ленского… из Ильфа и Петрова всех этих самых предводителей дворянства, Остапа Бендера и так далее. [Похоже на] хэппенинги, [которые] происходили в институтах ленинградских, шоу такие самодеятельные, они назывались и сейчас называются «капустники». [Не знаю,] как в американских университетах такие шоу называются, но в русских назывались «капустники» – капуста, cabbage, может быть, потому что одно на другое, как листики, – и в этих капустниках очень много было дерзости, много сомнительных и в политическом отношении шуточек. Происходило возникновение молодой оппозиционной среды.
Опять же вспоминается мне, возник с нашим институтом по соседству так называемый Клуб молодежи Петроградской стороны. Это было просто гнездо крамолы по тем временам, настоящее гнездо крамолы. Гнездо крамолы – выражение понятно американцам? Я сейчас запишу его, это важно знать: гнездо – nest, крамола – это ироническое выражение. Как «крамолу» мы переведем на английский язык? Помогайте, господа. Dissidence? Nest of dissidence or something like that?
(Из зала: Illegal, нелегальный.)
Нет, это уже что-то не то. О’кей. Потом вы возьмете словари и найдете.
Я тоже ходил в этот Клуб молодежи Петроградской стороны. Устроили [там] так называемый вечер культуры Франции, который превратился в разгул молодых крамольных сил. Устроили выставку абстракционизма, доморощенного, конечно (смеется), никто еще не умел рисовать абстрактных картин, но тут уже нарисовали всё, всё развесили. Играл джаз, а слово «джаз» произносить запрещалось, запрещалось сказать «американский композитор». Джазмены играли, например, Стэна Кентона – Stan Kenton – и называли его «польский композитор Станислав Кентовский» (смех). Например, один там сказал: «Американский композитор Харри Джеймс», его дергают товарищи: что ты делаешь, нас разгонят после этого! Он тогда говорит: «Прогрессивный американский негритянский композитор Гарри Джеймс». На такие хитрости пускалась молодежь, чтобы жить более-менее свободно, независимо.
Однако все это была крамола в рамках полной лояльности режиму. Советская власть – разумеется, социалистическая система – не ставилась под сомнение никем или почти никем. Даже в Ленинградском университете, где были в то время волнения в связи с подавлением восстания в Венгрии, никто все равно никогда не говорил, что советская власть – это что-то дурное, что ее хорошо бы выбросить на свалку истории. Таких разговоров не могло быть вообще! Психология людей того времени иллюстрировалась тем, например, что говорили: «Ты что, против советской власти, что ли?» Была такая поговорка, она означала are you crazy? Быть против советской власти – это значит быть crazy! Это абсолютно всем было ясно, понимаете? Может быть, потом, впоследствии, соответствующие органы сделали соответствующие выводы из этой поговорки (смеется). И стали лечить людей, которым не нравилась эта система.
Но я все это говорю, чтобы перейти вот к такой теме: как на этом фоне возникали первые ростки молодой литературы, первые ростки нового литературного поколения. Я стал ходить в Клуб молодежи Петроградской стороны в литературное объединение этого клуба, которое вел Давид Дар. Очень маленького роста, с огромной трубкой, он выглядел как настоящий писатель. И мы впервые увидели настоящего писателя, когда пришли с друзьями в это объединение. Но в общем Давид Дар был, я бы сказал, формальным лишь руководителем. В это время возникал на базе этого клуба кружок блестящей ленинградской литературной молодежи. Такие люди, как Евгений Рейн, Анатолий Найман, они тогда еще были студентами Технологического института. Илья Авербах был студентом-медиком, как и я. Туда же впервые начал ходить совсем юный еще Иосиф Бродский, в это же объединение. Был поэт Кушнер, который стал известным советским поэтом и выпускает очень хорошие книги, ну, не касается острых тем, но тем не менее поэзия у него интересная. Поэт Городницкий был, геолог, который стал известным бардом; Дмитрий Бобышев, живущий сейчас в Милуоки. Вот судьба этих людей. Бродский уже десять лет в Америке, Бобышев уже лет пять в Америке, Давид Дар умер в прошлом году в Израиле, я вот тоже в Америке. А некоторые еще в России, но не пишут, вернее, пишут, но почти не печатаются, за исключением, пожалуй, Кушнера и Ильи Авербаха, который – совершенно неожиданно – стал известным советским кинорежиссером. Это был наш главный молодой мэтр, у него тоже была трубка, все тогда заводили трубки – [лишь при этом условии] возникал образ современного писателя. Он еще не был издан, но мы уже читали его переводы самиздатские, помню, целый вечер мы обсуждали рассказ Хемингуэя под названием «Кошка под дождем» и искали: вот, вот этот рассказ, вот там подтексты, вот учитесь читать подтексты, учитесь читать то, что за строкой, то, что ниже строки.
Эти молодые поэты – Рейн, Найман, я напишу вам их [фамилии], это нужно запомнить; (пишет на доске) это Евгений Рейн, как дождь, да… Бродский Иосиф вам известен, да? Иосиф Бродский когда-то даже его называл своим учителем, но Рейн его, правда, старше всего лишь на два года. И мы еще будем говорить об этом человеке, об этом поэте, когда коснемся «Метрополя». Найман (пишет на доске), блестящий поэт и блестящий переводчик восточной поэзии, сейчас вот итальянскую поэзию переводит. Он был секретарем Анны Андреевны Ахматовой. Вообще вся эта группа – Бродский, Бобышев, Найман, Рейн, – это были так называемые «ахматовские мальчики», они окружили Анну Андреевну, и она как бы царила среди них… она и выглядела, кстати, действительно как королева. Я помню, как приехал повидать Наймана в Комарово и приехал на дачу Анны Андреевны, это было уже поздно вечером, там жгли костер, все сидели вокруг костра, и я с приятелем тоже к ним присоединился, мы сидели и, как в России говорят, хохмили. И в это время Анна Андреевна вышла на крыльцо, и я услышал ее голос: «А кто там еще появился?» Это она имела в виду меня. Ей доложили: это московский прозаик Аксенов. И она сказала совершенно по-царски: «Пусть подойдет» (смех). И я был, значит, к ней подведен…
Видимо, с самого начала эта группа вызывала раздражение властей. Очень характерна судьба Бродского, она иллюстрирует отношение официальной литературы к такого рода молодежи, возрождающей традиции Серебряного века. Вы знаете, что такое Серебряный век русской культуры. И цепь, связь с Серебряным веком была искусственно прервана. Эта молодежь явно продолжала цепь Серебряного века. Иосиф Бродский был совершенно анархическим человеком в молодости, в отличие от нынешней зрелости, когда он уже, по-моему, почетный академик десятка академий, профессор и так далее. Он был любимцем ленинградской интеллигенции, которая его, собственно говоря, и кормила. Он приходил, читал стихи, где-то его кормили обедами, где-то ужинами, это такая, в общем-то, русская литературная традиция, еще молодой Маяковский кормился таким образом. У него было расписание: понедельник – ем Чуковского, вторник – ем Гришковского (смеется), среда – ем… ну, назовите кого-нибудь. (Из зала: Горького!) Горького. В четверг ем Блока11. Ну вот, Бродский был любимцем и с самого раннего своего вступления в литературу его сразу в гении записали без всякого сомнения. Он везде читал невероятно громким голосом. Помню, я приехал в Ленинград на «Ленфильм» и жил в гостинице, и у меня собралась публика, и Бродский начал читать стихи так громко, что сбежались дежурные по этажам и сказали: «Сейчас вызовем милицию, прекратите хулиганство, безобразие это!» В шестьдесят третьем году появился фельетон о нем в ленинградской молодежной газете, где он был назван тунеядцем12. Американским нашим коллегам известно это слово – тунеядец, parasite. Это смешно: когда в Москве американским послом был Тун13, ambassador Toon, то, когда мы приходили на прием к нему, мы себя называли toon-еядцы, поедающие Туна (смех). Бродский был объявлен тунеядцем, бездарным поэтом, вернее, даже не поэтом, а псевдопоэтом. И он был арестован, и устроили над ним судилище. Одна из позорнейших страниц идеологической борьбы Советского Союза. Это судилище стало известным всему миру благодаря очень скромной женщине. Фрида Вигдорова (пишет на доске), запомните, пожалуйста, это имя, это очень важная веха. По сути дела, эта женщина начала правозащитное движение в Советском Союзе. Она была журналистка московская, прелестная женщина, очень честная и правдолюбец, что называется. Она приехала на процесс, с журналистским удостоверением зашла в зал и записала, [за]стенографировала весь этот возмутительный процесс, который выглядел абсолютно кафкианской историей. Рабочие, конечно, были привлечены, все отыгрывалось на рабочих. Выступает рабочий завода «Электросила»: я, конечно, стихов этого так называемого поэта не читал. Но я скажу, что таким людям не место в нашем городе пролетарской славы. Это город революционных традиций, и таким… и так далее. Где вы работаете, Бродский? Бродский отвечает: я поэт, пишу стихи. Ему говорят: да у вас не про это спрашивают, где вы работаете? Нигде не работаю. Ну ладно, значит, тунеядец. Короче говоря, приговорили Бродского к ссылке где-то в Архангельской области. Найман и Рейн поехали его навестить, это довольно смешная история. Приехали в село, где Бродский жил, северное, пустынное и огромное, торчат полуразвалившиеся избы, людей не видно. И они растерялись, не знают, как найти здесь Бродского. И вдруг они увидели: несколько пустых пачек из-под сигарет Camel валяется (смех). И они пошли по следам, и по следам сигарет Camel нашли дом, в котором жил тогда Бродский (смеется). Ему посылали посылки американские любители русской литературы, может быть, тот же наш друг Карл Проффер. Издатель Проффер. Благодаря Фриде Вигдоровой эта история стала известна во всем Советском Союзе и за границей. Благодаря ей возникло общественное мнение, а либеральная общественность уже существовала. И благодаря этой либеральной общественности Бродский был досрочно освобожден из ссылки: просто подписывали петиции, давали подписывать таким людям, как Шостакович, например, скульптор Коненков, которые увенчаны были официальными наградами.
Это я уже немножко позже захожу, суд был в шестьдесят четвертом или в шестьдесят третьем… да-да, в шестьдесят третьем14 году это было. Но тогда, в пятьдесят седьмом – пятьдесят шестом году, Бродский был совсем мальчиком. И еще одно любопытное событие произошло в пятьдесят седьмом году, очень важное для развития оппозиционной молодой среды в Советском Союзе. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Совершенно пропагандистское мероприятие, сейчас, по-моему, не существует их уже. Тогда собиралась, так сказать, прогрессивная молодежь планеты в Бухаресте, в Праге, в Берлине, в общем, в странах социалистического лагеря, для того чтобы заявить свою ненависть империалистам, потребовать мира во всем мире. Это были инспирированные Москвой игрища. Но московский фестиваль пятьдесят седьмого года был своеобразным событием. Представьте себе город, в который после семнадцатого года приезжало, наверное, несколько сотен иностранцев в год, всё закрыто, железный занавес торжествует, и вдруг распахиваются все ворота, и сорок тысяч молодых иностранцев оказываются на улицах Москвы. Последствия этого фестиваля, я думаю, очень потом беспокоили официальных идеологов Кремля.
[Цель фестиваля была показать преимущества]…самой научной, самой передовой, самой замечательной, самой справедливой системы в мире. А результат Московского фестиваля получился совершенно противоположный: советская, московская молодежь впервые увидела Запад. Мы впервые увидели выставки художников современных, мы впервые услышали настоящий живой джаз; я впервые увидел, скажем, английский театр молодой. Мы пошли на пьесу Джона Осборна… может быть, вы помните название такое – «Оглянись во гневе», Look back in anger. Конечно, мы смотрели тогда с переводом, трудно было понимать, но тем не менее вся атмосфера этого спектакля была настолько близкой к нам, и этот английский бунтующий молодой человек был так близок психологически к тому, что у нас начиналось, что тут возникла совершенно неожиданная связь молодой литературы, молодого театра Советского Союза и Англии.
Я помню также литературную дискуссию фестиваля. Это было в Московском доме архитекторов, и в дискуссии участвовали киты соцреализма – или, вернее, их можно было бы называть быками соцреализма, – такие как Анатолий Софронов. Анатолий Софронов – это, предположим, как сенатор Маккарти в Америке или гораздо хуже (смеется). Это такая сталинистская сволочь, жуткий человек огромных размеров, невероятно толстый, как после революции рисовали буржуев. [Еще был] Сергей Михалков, и вокруг сидела польская молодежь писательская, очень интересная. Я тогда был еще студе… нет, молодой врач уже. Я, конечно, не вмешивался, просто стоял в толпе, это вокруг круглого стола все сидели, и поляки атаковали Софронова. Софронов в растерянности спросил: «Вы так со мной разговариваете, как будто вы против социализма». И один из поляков сказал: «Если вы отождествляете социализм со сталинизмом, мы против социализма». Это было так невероятно слышать нам, стоящим вокруг. Очень смешной еще был эпизод: вокруг стола стояли люди, некоторые просили слова, и одна женщина, красивая, явно иностранка, в роскошном платье, вся в золоте, у Софронова просила слова. И Софронов, а он был председателем собрания, он на нее все время посматривал с боязнью, не хотел ей давать слова. И вдруг она все-таки пробилась, и оказалось, это коммунистка из Израиля. Она понесла такой сталинизм, который и Софронову уже не приходил в голову, и он расплылся от счастья (смеется) и говорит: «А товарищ из Израиля – а он известный антисемит, этот Софронов, – вы слышали, что товарищ из Израиля сказал? Вот, поляки, учитесь». Михалков отбивался тоже от поляков, о чем-то говорил, прикладывая руку вот так к груди, выпучив глаза, я даже не слышал, что он говорил, но я посмотрел на него и сразу понял, что он всё врет, каждое слово, всё ложь, абсолютно! Это очень было интересно.
Надо сказать, что в то время партия и идеологический аппарат в какой-то растерянности пребывали. Хрущев не знал, что делать, Хрущев вообще был… действительно, в дурацком положении. С одной стороны, он разоблачает Сталина, разоблачает сталинизм, разоблачает всю эту систему. А с другой стороны, он требует полнейшего подчинения идеологии, полнейшего подчинения доктрине, всё это не увязывалось. Он был человек совершенно невежественный, для него литература заканчивалась на поэте [по имени] Павел Махиня. Это он позднее нам говорил, уже в шестьдесят третьем году. До революции были такие сборнички для малограмотных, для рабочих на шахтах выпускали. И там такой был Павел Махиня, это стихи «любовь-кровь-бровь» (смех) и так далее. И вот он запомнил этого Павла Махиню и нам его… ставил в пример. Надо сказать, что так, как хулиганил в искусстве Хрущев, никто из вождей не хулиганил ни до, ни после. Он себе позволял такое хулиганство и такое издевательство над писателями, что, я думаю, некоторые предпочли бы быть арестованными, чем испытывать это… Но тем не менее существовала какая-то растерянность, и, я бы сказал, КГБ был в полном упадке – тогда разоблачили все злодеяния предыдущих лет, и они старались вести себя тихо, очень были смущены. Мне кажется, что благодаря этой растерянности, благодаря этому смущению возникло всё наше поколение. Всё поколение новой литературы. Если бы они не потеряли свой стиль, а сразу бы начали делать то, что делают сейчас, не смущаясь, наше поколение не возникло бы вообще. Хрущев истерически боялся Венгрии. Истерически боялся Будапешта. Его запугивали всегда Будапештом. Вы знаете, что в Будапеште началось всё с писателей, с клуба Petӧfi15? (пишет). Это венгерский великий поэт, Петёфи. Вот писатели начали всю эту бучу, они начали критиковать, начались дискуссии, туда ходили студенты, в конце концов все вышли на улицы и стали строить баррикады. И Хрущеву казалось – его все время подзуживали советники, которые вчера еще служили Сталину, сегодня служили ему, это сталинистское окружение, – что в Москве создается клуб Петёфи. Это было и в пятьдесят седьмом году, и позднее, в шестьдесят третьем, когда он уже нашего брата лупил. И все-таки они не могли сразу закрутить все гайки. Во-первых, из-за того, что шел процесс десталинизации, а он шел, тем не менее, они ничего не могли поделать. Например, в пятьдесят седьмом году, когда в результате борьбы за власть они выкинули из правительства Молотова, Кагановича и – кого еще там? – Маленкова и так далее. Объявили их антипартийной группировкой, это были старые сталинские люди. Они их выкинули из своего правительства в результате борьбы за власть! Но так как они их выкинули, то возникла опять же новая атмосфера. Они устраивают, с одной стороны, погром в шатрах, я буду о нем сейчас говорить, избиение интеллигенции, а с другой стороны, они устраивают двадцать второй съезд, на котором решают Сталина – его труп – выбросить из Мавзолея Ленина. Таким образом, в стране возникает нестабильная обстановка. Возникла уже интеллигентская антикультовая среда со своей собственной демагогией даже внутри аппарата идеологического. Уже появились так называемые либеральные коммунисты в ЦК. Демагогия использовалась такого типа: мы должны бороться против культа личности для того, чтобы наша идея – наша теория – была чиста, поэтому мы настоящие советские люди, но для развития нашего искусства необходимо то-то и то-то. Эренбург, например, был одним из проводников этой интеллигентской демагогии. Он писал огромные статьи о кризисе буржуазной культуры с одной только целью – упомянуть там два-три запрещенных имени, Мандельштама или, скажем, Бабеля, понимаете? И он добивался этим многого.
Но тем временем все-таки шел процесс, когда старались утихомирить бунтарей из этой бывшей сталинской гвардии. Вот, например, я вчера пошел в Library Camris (?) и попросил микрофильм «Литературной газеты» пятьдесят седьмого года. Заголовки, надо сказать, не отличаются от сегодняшних заголовков газет, но тогда прямо всё, всё было закрыто ими. Заголовки такого рода: «Наше идейное оружие», «Два мира – две идеологии», «Гордимся тобой, партия», «Литература должна служить социализму». И ты видел, что за этими строками, за этой фразеологией идет какое-то бурление, существует вулкан, существует колебание почвы.
Между прочим, Польшу атаковали почти в каждом номере газеты. Я бы сказал, что Польша была источником не столько политической крамолы – крамола, опять слово «крамола», – сколько источником эстетической крамолы. Все гонялись за журналом «Польша», это такой официальный журнал польского правительства, но он был в руках польских либералов, и они печатали репродукции современной польской живописи, статьи об искусстве современном, печатали переводы современных польских молодых прозаиков и так далее. Польша вообще была очень в моде в то время. Многие молодые писатели, молодые интеллигенты стали учить польский для того, чтобы читать польские журналы в оригинале. Через Польшу открывалось большое окно на Запад, и польский язык русскому изучить легче, чем английский, скажем, или французский, и гораздо легче становился доступ к западной культуре. И они, видимо, это понимали, и в «Литературной газете» то и дело появлялись атаки на Польшу, вот было, например, открытое письмо такого законченного мерзавца, Василия Захарченко, редактору польского журнала «Польша», где он атаковал в основном живопись, говорил, что путем абстракционизма они проводят свою ревизионистскую политику.
Или, например, некий Гаврилов написал статью «Литературное бездорожье» о прозе Марека Хласко и поэзии Богдана Дроздовского. Известны имена? Марек Хласко. Нет, это польский писатель нашего поколения, моего, один из первых бунтарей. Я напишу по-русски, я не знаю, как по-польски пишется (пишет) Марек Хласко. Такой польский young angry man. Первый его сборник называется «Первый шаг в тучах»16, и был еще [снятый по его рассказу] знаменитый фильм «Восьмой день недели»; он описывал польскую жизнь без прикрас, описывал все проблемы, которые там возникали между молодыми людьми, и он постоянно находился под атакой официальной критики. Кстати говоря, все статьи зубодробительные, атаки на Запад, еще и своего рода пользу приносили, они давали информацию. Скажем, ты живешь где-нибудь в Саратове и даже не подозреваешь, что существует на свете Марек Хласко – до тех пор, пока его не раздолбает «Литературная газета». «Литературная газета» скажет, что он буржуазный декадент, очернитель социалистической реальности, жизни и так далее и тому подобное. И у тебя в Саратове уже возникает определенная информация, ты начинаешь думать: о, какой там хороший парень существует, какое интересное название рассказа – «Восьмой день недели», о чем это? Оказывается, это порнография, это натурализм. Двое, он и она, из-за жилищного кризиса в Варшаве не знают, где соединиться, чтобы любить друг друга, и все дни недели они ходят в варшавских трущобах, не могут найти комнату, чтобы уединиться. И в восьмой день недели разражается трагедия, когда ее где-то там насилуют. Вот о чем! И вся эта критика зубодробительная дает опять же обратный результат. Или Богдан Дроздовский: я потом встретил Дроздовского в Варшаве, очень была интересная встреча. Он пишет стихи «Шестнадцатилетняя с накрашенными губами», это о молодой проститутке в Варшаве. Совершенно немыслимо для социалистического писателя писать о каких-то проститутках – о рабочих надо писать, о колхозниках надо писать! А он пишет о проститутке, это совершенно жуткая история!
Вот из Польши шла зараза, и постоянно, на протяжении всего этого года пятьдесят седьмого, шла атака на сборник «Литературная Москва», о котором мы говорили в прошлый раз. Наиболее массированная атака была предпринята критиком-сталинистом Ереминым. Надо сказать, что в это время в «Литературной газете» появлялись одна за другой гигантские проблемные статьи. Вы знаете такое выражение – «подвальная статья»? Ну вот газетный лист, а здесь вот эта вот статья, это «подвал» называется. Такие статьи по четыре подвала, по шесть подвалов даже идут, я буду сейчас о них говорить, и они все были проблемные, все боролись за настоящее социалистическое искусство. И вот Еремин пишет «Заметки о сборнике “Литературная Москва”»17, особенно свирепо атакует поэзию Якова Акима, помните, мы [о нем] говорили, и там замечательная есть фраза: «даже наше родное советское метро не нравится Якову Акиму. Даже наше самое красивое в мире московское метро он и то оскорбляет». О Яшине этот Еремин пишет просто зловещим тоном, намекая, что «Рычаги» – это не просто рассказ, что это продуманная идеологическая диверсия. Так и говорит: каждая деталь в этом рассказе продумана с определенной целью. Затем, в марте, состоялся пленум правления Союза советских писателей18. И на этом пленуме произошла забавная ситуация с Симоновым. Константин Симонов – это известное имя? О нем стоит поговорить отдельно, дальше поговорим немножко более подробно. Он, с одной стороны, пытался вывернуться – он был редактором «Нового мира», когда они напечатали «Не хлебом единым» Дудинцева, и на пленуме пытался выскользнуть из-под критики и сам атаковал Дудинцева за так называемую ложную смелость (смеется). Ложная смелость – [это означает] нечего вам представляться здесь смельчаком. Но с другой стороны, на этом же пленуме так называемая «черная сотня» (Грибачев, Софронов и Кочетов, тогдашние редакторы «Литгазеты», эта триада называлась «черная сотня» в литературных кругах, по имени тех черных сотен, которые до революции устраивали еврейские погромы в России) – черная сотня атаковала самого Симонова. Они говорили, что Ольга Берггольц (пишет), ленинградская поэтесса, и Симонов требуют пересмотра партийных решений по литературе. О чем шла речь, о каких решениях? Речь шла о решениях, связанных с именем Жданова (так называемая ждановщина). Этот мерзавец Жданов, иначе его и не назовешь, даже в академической лекции (смеется) пытался сделать свою партийную карьеру, жертвуя такими людьми, как Ахматова, Зощенко. А партийные постановления… эти постановления, как ни странно, не отменены даже до сих пор, хотя Ахматова считается уже классиком, Зощенко десять раз переиздавали в Советском Союзе, всё у него напечатано, но постановления священны. Их нельзя отменить! Ну как нельзя из Евангелия выбросить ничего, понимаете? Вот такие дела.
[На пленуме] вытаскивали все время на трибуну Дудинцева, требовали, чтобы он каялся. Была уже такая отрепетированная истерика пущена в ход. Вот [Лев] Копелев, он сейчас в Йеле, приехал из Германии, и он напомнил мне, что писательница Мария Прилежаева выскочила на трибуну и истерически завопила: «Когда придут американцы, они нас всех повесят! Кроме Дудинцева!» (Смеется.) Но Дудинцев выступил на этом пленуме и вроде бы покаялся, но не до конца как-то, понимаете ли, покаялся. Он покаялся, но все-таки стоял на своем.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.