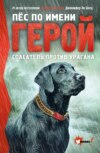Kitabı oku: «Безумная тоска»

Джону, Джеймсу, Полу и Йохану, что претерпели столь многое, я посвящаю эту книгу.
Взор обратил я на восток, навстречу солнцу,
Увидев башню на холме, что высилась неколебимо,
А на востоке – дол, где было подземелье
С кавернами, ужасными на вид.
Меж ними – поле, полное людей,
Всех без разбора – бедных и богатых,
В трудах иль праздности, как мир того просил.
«Видение о Петре Пахаре»
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога.
А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
От Матфея, 10:29–31
Vince Passaro
Crazy Sorrow
Copyright © 2021 Vince Passaro
Simon & Schuster, Inc., is the original publisher
© Чарный В., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Часть первая. Если бы сегодняшняя ночь не была кривой тропой
1
4 июля 1976-го: в ту ночь они повстречались. Всего лишь дети, но не душой. В ночь празднества миллион людей маршировал от метро к реке, Джордж был среди них, и Анна тоже – впервые он увидел ее в тесном вагоне подземки. Они вышли на улицу, и толпа растеклась, люди, подобно пилигримам, тем, что вам доводилось видеть на картинках, одурманенные верой, разбредались вниз по Кортленду и Ректор-стрит, вверх по Уотер-стрит и Уолл-стрит, множеством верующих в нравственную силу, стоявшую за основанием республики. Потемневшая история нации легкой ношей лежала на их плечах – все же они были на празднике ее двухсотлетия, и в разгаре были спасительные выборы. Страна еще не выжала надежду из всех, кроме богатейших граждан, и это грандиозное шоу было их официальным развлечением в серебристой тьме, требуя лишь полдолларового жетона на проезд. Они собрались здесь ради фейерверков, что должны были стать кульминацией этого долгого дня, и неизвестно было, достойно ли он завершится, так как все знали об убийствах, и ложь стала привычной – в день, когда по реке шли парусники, а на ее берегах пили пиво и готовили барбекю. А сейчас они все шли и шли, пока не оказались у водной преграды – на востоке за спинами вздымались исполинские башни, а на западе чернел Гудзон – толпа была готова смотреть на фейерверки, фейерверки, каких, как говорили, еще не бывало, пылающие в размытом сумеречном небе над гаванью, где собрались парусники со всего света. Все корабли стояли на якорях, с убранными парусами, и на морской глади раскинулся лес долговязых мачт, подобно крестам, что ждали воров, фанатиков или искупителя.
У Джорджа был особый интерес к кораблям, он три года проработал на лодочной станции Коннектикута и был умелым моряком. Днем по Гудзону проплывали суда, подобных которым он еще не видел: две дюжины гигантских кораблей восемнадцатого века. Лишь в Ньюпорте можно было ступить на борт хотя бы отдаленно похожего судна. Малых судов – малых условно, лишь в сравнении – было больше сотни.
Толпа собралась на свалке – лунном ландшафте песчаных дюн, нырявших в реку за башнями Центра торговли, за готическими останками старого Вестсайдского шоссе, под которыми они прошли, чтобы прийти сюда и неожиданно оказаться на сером пляже; здесь были американцы разного рода, в основном молодежь – не каждый выдержит подобный путь – всех сортов, местные и туристы, богатые и бедные, всех цветов и рас, не теснились, но все были вместе. Джорджу Лэнгленду еще суждено было узнать, что в жизни каждого города есть миг, объединяющий всех, сливая их воедино в полуединодушном эмоциональном переживании. Подобное он испытывал впервые; в ноябре ему, парню из восточного Коннектикута, должно было исполниться двадцать, и он, обычно отрешенный, откровенный циник, был потрясен, не веря в то, что здесь могло собраться такое количество людей, хаотически разбитых на группы, бездумно, словно бизон, пересекавших это песчаное ничто. Сколько в этом было добра! Каждый день город превращался в карту военных действий, где безопасные зоны чередовались с захваченными территориями, где царили враждебность и насилие, но только не здесь. Полуукуренное, жизнерадостное стадо в молочно-белом свете напоминало новых лунных колонистов – Луну покорили семь лет назад, и казалось, что с тех пор минуло целых три века. Джорджу тогда было двенадцать, и мать еще была жива. Она разбудила его в два часа ночи, чтобы он посидел с ней на диване, пока она курила «Раули», поджав голые ноги, чтобы наблюдать за нелепо выглядевшими мужчинами, одетыми, как Дайвер Дэн1, и двигавшимися так же медленно – подпрыгивая, тяжело шагая по серой пустыне, они устанавливали в грунте неподвижные алюминиевые флаги США, заявляя права своего королевства. Он вспомнил, что сказала мать: «Вся эта затея с флагами всегда была хорошей идеей, ни разу в истории не приносила проблем, и для сопричастных ей все кончалось хорошо». На следующий день парни из NASA играли там в гольф и засеяли «Тайтлистом»2 лунный ландшафт – помехи, треск, помехи, «вас понял, Хьюстон», помехи, «это было э-э-э-э», помехи, помехи, «около э-э-э», помехи, «пятнадцати сотен ярдов»3, помехи, треск – электрические волны, и белый шум, и свист, и гул двух сотен тысяч душераздирающих миль. «Да уж, вот бы нам», помехи, помехи, помехи, «так бить», помехи, «там, на большой голубой, перехожу на прием», помехи, помехи, помехи. «Так… вас понял, Орел». NASA не обучали сотрудников наземного комплекса управления жизнерадостной болтовне. На человеческий дружелюбным тоном переводил Кронкайт4, сверкая неуверенной улыбкой – со дня убийства Джона Кеннеди по его бровям можно было угадать настроение всей нации, – объясняя, как благодаря пониженной гравитации астронавт способен подпрыгнуть на десять футов, даже в столь тяжелом костюме, и запустить мяч, как ракету (одна шестая той силы, подчеркивал он, что притягивает нас к Земле). И кто? кто бы мог подумать, что они сумеют запихать клюшки, мячи, метки и всякую всячину в крохотную, тесную кабинку упакованного в фольгу модуля с паучьими лапками, на котором они прибыли? Ребята, хоть тресните, но не вздумайте забыть клюшки для гольфа, как отправитесь на эту чертову Луну.
Семь лет спустя, почти день в день, здесь поднимались и опускались маленькие нью-йоркские дюны, и гравитация была точно такой же, как на уровне моря на всем Восточном побережье. Песок на свалке был плотный, слежавшийся, казался темноватым, неприятно хрустел под сандалиями и кроссовками и был необъяснимо влажным, с нездоровым маслянистым блеском. Кое-кто из завзятых хиппи топтал его босиком, что казалось Джорджу слегка… неразумным? Перегнули с идеологией. Он попытался представить, откуда руководство нью-йоркской инфраструктуры достало весь этот грязный, мокрый песок, что за гадость могла в нем водиться и как он вообще здесь оказался. Плотные фрагменты – сланец, камни и земля – явно свезли сюда, к реке, когда заложили башни там, за спиной. Но откуда песок, брат? И вот, в эту ночь здесь стоит так много людей: подземку забили до отказа, до самого предела, и здесь были Джордж, на лето оставшийся в кампусе (в сентябре ему предстоял второй курс в Колумбии), и его друзья – большинство из них покинули город в мае, но вернулись ради общенационального парада. Днем в Риверсайд-парке все они курили траву, следя за идущими на всех парусах кораблями, потрясающими и романтичными. Вокруг, в плотной духоте на закрытом вестсайдском шоссе манхэттенские пуэрториканцы и доминиканцы устроили пикник, принеся складные стулья и хибати, а их одеяла, обувь и детские игрушки чудесным образом распределились прямо на горячем асфальте.
Трава уже отпустила, а головная боль еще не пришла, и Джордж, чьи чувства обострились, ощущал лишь пустоту внутри. Сейчас его интересовала лишь девушка, он все еще не знал, как ее зовут. Она была невысокой, смуглой, с изящными формами, а за зелеными глазами, казалось, скрывалась череда тихих, печальных комнат. Небрежная челка, каштановые волосы спадают на плечи. Красная клетчатая хлопковая рубашка, старая и мягкая, немного расстегнулась и тянулась назад под своим собственным весом, открывая шею и спину больше, чем грудь. Лифчика на ней не было, грудь была прелестной. Его влекло к определенным женщинам, с живым и опасным складом ума; проворным, игривым, с озорным взглядом. Перед глазами вновь мелькнул образ матери. Даже после смерти она не покидала его. Особенно после смерти. Кроме рубашки на девушке были обрезанные шорты Levi’s. Кеды, шнурки навыпуск. Патриотичный, чисто американский прикид. Подружка Гейста, перевод: спала с ним, этим богатеньким принстонским плейбоем, но если верить Майклу, встретившему ее и пригласившему сюда, сейчас с Гейстом она не спала.
Джордж нес полуоткрытый мини-холодильник, откуда торчало горлышко уже откупоренного и весьма неплохого шабли, плюс потертый, похожий на треску чехольчик в кармане шорт, где покоилась четверть унции годного колумбийского: темно-желтая трава с крупными, липкими шишками и три уже скрученных косяка. Он, и она, и все остальные тащились по дюнам, вверх-вниз, как миллион тупых исследователей, все, как один, решивших отправиться на южный полюс одновременно; серовато-коричневый песок пылил под сандалиями, конверсами и пумами, зелеными, как лес: толпа знала, что еще не видимой целью был мыс на юго-востоке.
Ее звали Анна. Анна Гофф.
Кто-то из друзей шел впереди, кто-то – слева, кто-то – справа, а в их небольшой группе рядом с Джорджем и Анной был Робби, учившийся курсом старше и курировавший Джорджа в «Очевидце», ежедневнике кампуса, где тот был корреспондентом, а Робби – новостным менеджером; в нескольких футах позади брел скрупулезный гениальный-укурок-с-математическим-уклоном Логан, прилетевший с Гавайских островов – когда он не курил, в особенности с полуночи до пяти утра, то сидел за компьютером в мэйнфрейм-бункере под корпусом физиков. Сегодня был один из тех редких случаев, когда при нем не было кипы бежевых перфокарт, стянутых резинкой.
Наконец они уселись на вонючем, грязном песке. Начался салют, сопровождаемый аханьем и одобрительными возгласами. По кругу передали косяк, и вскоре все снова обдолбались. Джордж откинулся на спину и прямо над собой видел не столько бесконечные фейерверки, но отблески света в небе, призрачной краской заливавшие угольно-черную небесную ткань.
Он поднялся, хлебнул из бутылки, передал ее девушке. Вино было что надо. Он вновь распластался на песке.
– Вино что надо, – проговорил он.
– Да, – согласилась она. – Хорошее.
– Жаль, что мы не в Испании и это не рассказ Хемингуэя с печальным, но неубедительным концом. Такой, где что-то хорошо, а что-то – нет, и нам известно, что в нем хорошо, а что плохо, а другим – нет, и они путаются в хорошем и плохом. И это нехорошо. Но мы-то знаем. И это делает нас хорошими.
Она наблюдала за фейерверками, словно за цветами из красочного света. Логан и Робби сидели чуть поодаль, курили жирный косяк и обсуждали выборы.
– Мы, конечно же, обречены, – говорила она. – Мы не можем быть вместе. Тебя же ранило на войне, ну, туда. А я нимфоманка.
– Чего? – удивился Логан. – Это чё еще такое?
– Из Хемингуэя5, – ответил Джордж. – Не возбуждайся.
– Я никогда не возбуждаюсь, – возразил Логан.
– Ну разве только когда на своем Фортране напрограммируешь «блядь» на мониторе, – вставил Робби.
– Да делал я так, – бросил Логан.
– И чёй-то я не удивлен? – сказал Робби.
Джордж воспользовался случаем, и пока Анна любовалась сверкающим небом, он предпочел любоваться ею. Ее лицо было непередаваемо чувственным. Рот, скулы, подбородок. Глаза сияли интеллектом, способным буквально сбить с ног – если, конечно, вас, в отличие от Джорджа, не привлекали умницы, и причиной тому была его мать. Он перевел взгляд на мини-холодильник и горлышко бутылки. Вино скоро кончится. Надо оставить этот дебильный холодильник здесь. Пусть станет частью фундамента.
Эндрю и Робби снова раскурили косяк. Робби затянулся: взорвалось семечко, а с ним и весь косяк, как сигара фокусника.
– Бля-я-я-ядь, – протянул Робби.
– Кое-кто хреново лист очистил, – сказал Эндрю.
– Некогда было, – откликнулся Джордж. – Учил наизусть Декларацию независимости.
– Ага, и похерил мои поиски счастья, – проворчал Робби. – Мне почти в глаз попало. И зовут тебя Джордж – плохой знак в дни революции.
– Джордж Вашингтон, – сказал Джордж.
– Быть тебе, мудила, Георгом Третьим6, если такое повторится, – огрызнулся Робби.
Он снова скрутил косяк, раскурил его и передал через неофициальное пространство, отделявшее Джорджа и Анну от остальных. Время растянулось, словно скатерть на траве. Позади, словно волшебные ящики, стояли две башни, отражая огни гавани и фейерверков длинными, геометрически правильными рядами тонких колонн – словно невероятная фреска, вырезанная узкими полосками. Абстракция. Джордж тронул ее за плечо, чтобы она посмотрела туда, и они обернулись, глядя на плоские фрагменты беспорядочных цветов на грозных громадах. Миллион людей в это время смотрели не в ту сторону. Через несколько минут они лежали ближе друг к другу, соприкасаясь телами. Плечо к плечу, касаясь головами.
– Будет ли отсылка к черному монолиту из «Одиссеи» Кубрика считаться клише? – спросил Джордж.
– Да, будет, – ответила она.
– Тогда я воздержусь. Видела, как тот француз прошел по канату между башнями? Петит?7
– Нет, не видела. «Т» не произносится.
– Чего?
– Пети. «Т» на конце не читается. Пе-ти, ударение на последний слог.
– Спасибо. Пе-тИИ. Я по телевизору видел, не мог поверить, что это правда. И он так долго был там, наверху! Танцевал, над копами глумился. Ветер сорок миль в час, сотня этажей. Наверху, в небе, кружат вертолеты. На фотографиях, сделанных с земли, он такой крошечный со своим шестом, как насекомое. Просто невероятно.
Какое-то время она смотрела в никуда, словно пытаясь представить это.
– Каким отрешенным, должно быть, он себя чувствовал. Или был способен чувствовать. Не могу представить, что творилось у него в душе.
– Так далеко я не заходил, – ответил Джордж. – Просто думал об этой высоте, чистое безумие.
– Быть может, ты бы и не заметил этой высоты, если бы полностью ушел в себя, в свой волшебный внутренний мир.
Снова стало тихо. Затем она нарушила молчание:
– Не могу понять, как к этим башням относиться. Сейчас они мне нравятся, но иногда я терпеть их не могу.
– А мне они всегда нравились. Мой дядя работал над ними.
– Сегодня мы лежим прямо под ними. – Она остановилась. Он хмыкнул, приглашая ее продолжить:
– Ммм?
– Они прекрасны.
Сказывалось действие травы. В ее словах Джордж слышал, что она в самом деле чувствовала, как они прекрасны. Они действительно были прекрасны. Отчасти из-за их размеров, издалека этого не ощутить. И они были близнецами. Их цвет тоже был тому причиной: стекло и сталь в переменчивом свете дней и ночей, закатов и рассветов, серого или розового неба, а иногда божественного, прозрачно-голубого.
Косяк потух, и, когда за их спинами вновь грянул салют, он снова раскурил его. Они легли на песок, отвечая друг другу на вопросы о собственной жизни. Студентка Барнарда на том же курсе, что и он, изучала компаративистику, испанский и политологию (это было ближе всего к исследованию культуры Латинской Америки, чем в Барнарде не занимались); она пыталась извлечь как можно больше из доступных ей в Колумбии предметов, но вся учеба была сплошным головняком, и, по ее словам, женщин там ненавидели. «На кафедре английского женщины тоже не в почете», – сказал он. Да, она об этом слышала. Он хотел прикоснуться к ней, прижать к себе, почувствовать, как пахнет ее шея и спина меж лопатками – в метро, всего в нескольких дюймах от нее, он видел там темный пушок – гордый изгиб шеи с ямочкой, ее кожа… Но сколько они были вместе? Полтора часа? Она из Пенсильвании. Откуда? Не хотела говорить. Почему? Не хотела, и все. «Сентралия, – наконец, сказала она, – недалеко от Гаррисберга». – «О’кей». Наконец шоу закончилось; гулкое буханье, резкие хлопки, бессмысленный восторг толпы, учитывая число собравшихся, напоминал жидкие аплодисменты среди влажной ночи. Он предпочитал естественный цвет неба, раньше он не сознавал этого, но фейерверки его совершенно не трогали, наоборот – раздражали. Вот и еще одна особенность взросления: он все еще пробовал его на вкус, свое собственное, автономное творение, взрослую версию самого себя, сбрасывая кожу пропаганды детства, семейных легенд и ложные догматы веры родного города. Будучи ребенком и подростком он всегда жаждал свободы. И вот он получил ее, и вкус ее был столь же сладок, как в его мечтах. Теперь он понял, что всей душой ненавидел фейерверки. Если ты примитивный, да ты, блядь, будешь на них молиться, но ведь уже придумали кино, книги, секс до брака, так почему все стоят, разинув рты, и пялятся в небо? У-у-у. А-а-а. По всей гавани и в устье Гудзона на якоре стоят дюжины шедевров инженерной мысли: искусные мачты, спущенные паруса на гиках, остроносые иглы корпусов, чудесное скопление произведений столярного искусства. Все поднялись, собрались, встряхнулись, и разношерстная толпа с неохотой потащилась прочь со свалки, в сторону Уэст-стрит.
– Холодильник забыл! – крикнул ему вслед Робби.
– Оставлю на потом, – ответил Джордж.
Вместе с Анной они направились на север, а Робби и Эндрю затерялись где-то позади. Все снялись с места, и толпа стала пугающе огромной, подобно ночному отступлению из растерзанной войной земли на юге Манхэттена. Его внимание было приковано к стальным углам башен – трудно представить себе, насколько они колоссальны, пока не окажешься рядом, и сохранить этот образ в мыслях, пока не вернешься сюда. Сейчас, когда шоу закончилось, они почти полностью погрузились во мрак, и казалось, что это два черных туннеля, ведущих на темный чердак вселенной.
Они продолжали идти вперед вдоль северного края толпы, вышли на Чемберс-стрит, сумев попасть на экспресс до пригорода. Состав был полностью забит, и все молчали. Празднество длиною в день и шум салютов лишили всю толпу голоса. В вагоне было сорок с лишним градусов. По лицам струился пот, от него же темнели рубашки. От Четырнадцатой и до Пенн-Стейшн Джордж и Анна ехали в центре вагона без какой-либо опоры: он был достаточно высок, чтобы упереться кулаком в потолок, а она схватилась за его ремень. Это сводило его с ума. Несколько раз их взгляды пересеклись, мгновение они смотрели друг на друга, но были невыносимо близко, это было слишком, и они отводили глаза. На 96-й с толпой они изверглись из вагона. Здесь была станция пересадки на пригородные поезда, где им нужно было сесть в тот, что шел дальше по Бродвею в сторону кампуса. Несколько экспрессов уже прибыли сюда, и на станции скопилось столько людей, ожидающих пересадки, что явившиеся последними подвергались опасности упасть с платформы на пути, рискуя попасть под состав или быть съеденными крысами размером с баклажан. Там, внизу, грызуны кишели, словно аллигаторы. Джордж взял Анну за руку, втянув в ряды идущих на выход. Еще двадцать кварталов им предстояло преодолеть пешком.
– Я здесь не хожу, – сказала она.
Здесь означало пространство от 110-й до 79-й улицы, полное сутенеров, шлюх, наркоманов и пьяни, сумасшедших ветеранов Вьетнама и поехавших всех сортов, только что выписанных из психушек и снимавших комнаты в отелях, что стояли на боковых улицах.
Джордж протянул ей руку, она взялась за нее.
– Но мне нравится на это смотреть.
Все на Бродвее: магазины на углу, бары и прочее – излучало зловещий неоновый свет. Здесь было шумно. Отовсюду слышалась одна сальса – к востоку и западу, на улицах и в школьных дворах, на стихийных вечеринках и танцах. Когда они добрались до Морнингсайд-Хайтс, все стихло; как обычно, на скамейках разделительной полосы спали алкаши, студенты возвращались домой группами или поодиночке, медсестры спешили на ночную смену в больницу. Они вошли на территорию университета на 114-й. У него была комната с двуспальной кроватью в общаге первокурсников, на лето ее сдавали за наличные как одноместную для студентов, приезжавших в гости. За комнату он платил из своей социальной страховки.
– Что собираешься делать? – спросил он.
– Что-то в сон клонит, – ответила она.
Было уже за полночь. Она жила в здании Барнарда на углу 116-й и Клэрмонт.
– Можем музыку послушать. Дунем.
– Мы и так уже накурились. А что потом?
– Потом? Кто знает. Поговорим о Ницше. Читала «Заратустру»?
Она засмеялась приятным, мелодичным смехом:
– Читала, да. А что за музыка?
Он сразу понял, что за этим вопросом последует дюжина других.
– Любая, которая тебе нравится.
– Любая?
– Ну да. У меня, знаешь ли, ее целая куча. Что предпочитаешь?
– Смотрю на тебя и знаю, что у тебя точно есть Дилан. Джони Митчелл, и наверняка Doors. Какое-нибудь обывательское дерьмо. Ставлю на то, что у тебя полным-полно The Who.
– Ладно, все угадала. То есть у меня три альбома The Who, не так уж много.
– Многовато. А еще у тебя есть Kind of Blue Майлза. Его покупка стала для тебя важным событием.
– Эй, притормози!
– Извини.
– Ничего, переживу. Давай дальше.
– Дженис Джоплин у тебя есть?
– Есть ее альбом с Holding Company.
– Хорошо. Гленн Гульд?
– Что за Гленн Гульд?
– Боже. А как насчет, дай-ка подумать… Procol Harum?
– Procol Harum? Серьезно? Procol Harum? Так сложилось, что у меня они есть. Ты что, правда, их слушаешь?
– Нет. То есть редко, но это неважно. А Тито Пуэнте?
– Нет. Только запись Сантаны. Ну, та, где есть его песня.
– Ммм, плохо. А Эдди Пальмиери?
– Погоди-ка, разве плохо, что у меня нет Тито Пуэнте и как его там… Эдди Пальмиери? Шутишь? Конечно, у меня есть Эдди Пальмиери и Тито Пуэнте, есть оба. Точно. Посмотри на меня хорошенько! Я был единственным на всем побережье Коннектикута, кто носил топсайдеры8 и слушал Тито Пуэнте с Эдди Пальмиери. У меня целая коллекция сальсы. Господи, да мне приходилось пленки прятать от своих друзей – все, как один, здоровые, и тоже в топсайдерах. Тебе повезло, что я не заставлю тебя слушать музыку Ренессанса.
– Нет, это тебе повезло, что ты не попытаешься заставить меня слушать Ренессанс.
– Это что, тест какой-то? Я просто белый парень из пригорода, зависший на полпути меж изысканной буржуазией и рабочим классом.
– Кто на какой стороне?
– Мать была модницей, но деньги у нее редко водились. Отец был учителем в средней школе. Гражданское право и ОБЖ. Чуть лучше, чем физрук, которого, кстати, он иногда подменял. Он был красивым. Лодки любил.
– Был?
– Оба умерли.
– О…
Он замолчал.
– Это тяжело. Извини.
Он никогда не понимал, как на такое реагировать. Честность была бы раздражающе ироничной.
– Ну да, – ответил он. – Но «не позволяй себя сломать». Как в песне Нила Янга.
– Никакого Нила Янга.
– Ни минуты.
– Быстро же ты сдаешься.
– Заглядываю вперед. Стычка – не война. Накурю тебя, поставлю 4 Way Street9, и ты будешь подпевать, а потом вдруг задерешь голову и закричишь: «Чего?»
– Нет, нет, нет! – закричала она.
На крик обернулись два парня, шедшие в Карман Холл10.
– Old man sitting by the side of the road… with the lorries rolling by…11 – пропел фальцетом Джордж.
– Нет! Нет-нет-нет-нет! Нет! – Она смеялась.
– Так и будет, – заверил он.
Они пошли дальше.
– А Шарль Азнавур? Шарль Азнавур у тебя есть?
Он остановился. Ей пришлось обернуться и подождать ответа.
– Что такое?
– Хуйня какая-то.
– Что за хуйня?
– Я даже не должен знать, кто это.
– Но ведь знаешь?
– Есть у меня кое-что из него. Купил кассету еще в школе и прятал от всех друзей. Мне он нравится.
– Вечное возвращение.
Он уставился на нее.
– Все повторяется снова и снова. Ты же вроде как читал «Заратустру»?
– Я не говорил, что читал «Заратустру», это ты сказала, что читала его. Я еще не закончил «Рождение трагедии», которую должен был прочесть в прошлом году. Если я все верно понял, Ницше бы протащился по Rolling Stones. Они шарили во всем аполлоническо-дионисийском.
– Не вижу в них ничего аполлонического.
– Тебе, должно быть, нелегко угодить.
– Даже не представляешь насколько.
И вот они стояли у входа в Карман Холл, у стены из шлакоблока, выкрашенной в холодный белый цвет, сиявший в свете фонарей. Так близко друг к другу и тянулись все ближе.
В полной тишине, скрестив взгляды, как не осмелились в метро, они стояли рядом. Она поцеловала его. Он поцеловал ее в ответ – медленно, легко. Ее губы были мягкими, такими же, как невообразимо мягкие губы, которые он целовал в своих странных снах. Он не хотел вспоминать о тех снах, не сейчас. Он желал владеть этой женщиной. Они поднялись наверх, к нему в комнату. Они целовались, покурили еще немного, и он поставил Sketches of Spain12, негромко, и музыка переливалась, как поэма с отблесками звездного света на крохотных волнах. Так звучал воздух в ночи. Немного грустно. Что бы ни случилось, ему не хотелось никакой спешки. Они лежали на его постели, целовались и целовались, и он касался ее тела, едва-едва, легко, словно ветер. И ее тело ответило на его прикосновения.