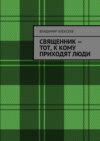Kitabı oku: «Керосиновый фонарь», sayfa 2
Yazı tipi:
«Послушай, Сократ, для чего ты сократствуешь?..»
Послушай, Сократ, для чего ты сократствуешь?
Послушай, Эзоп, для чего ты эзопствуешь?
Ведь этим стократно ты ближних не радуешь,
А только раздорам и сварам способствуешь.
Жене не приносишь ни драхмы за лекции,
Детишкам статира за вирши не выгорит.
И тёщи сентенции, вовсе не лестные,
В тебе обличат неискателя выгоды.
И плебс, и начальство, то зрелища требуя,
То хлеба, на слово твоё раздражаются.
Не модно сократство, эзопство не трендово,
Они от людской глухоты отражаются,
К тебе возвращаются, жалят неистово,
Царапают всё, что отглажено лаково.
Уж лучше скитанье по миру Улиссово,
Уж лучше на подвиг натуга Гераклова.
Толпа порицает за все прегрешения,
Но самые-самые в мире несносные —
Сократство с эзопством, недуги душевные,
Которые всюду поэзии свойственны.
Страты
Рождением не тех коснулись страт,
И, вырастая, не сменили страты.
Я не спрошу тебя: «В чём сила, брат?» —
В бессилии мы оба виноваты.
И в том, что наглость доблести сродни,
И в том, что хамство – не порок, а каста.
Что делать с этим? Поздно, извини! —
Не знаю я от гибели лекарства.
Быть может – щит, быть может – ловкий меч,
Быть может – несгибаемое слово.
Я знаю только: в эту землю лечь
Нам всем дано, и нет пути иного.
Я знаю лишь: нам всем гореть дотла,
Пока в кострах духовные кастраты
Сжигают наши книги и дела,
И наши дети не меняют страты.
Я верю, брат, о том ты не ревнив,
Что многих, кто камлает Люциферу,
Не всем доступный социальный лифт
В далёкую возносит стратосферу,
Что ты готов до смерти быть собой,
И не носить трагическую маску.
Но нас берут мерзавцы на "слабо" —
Простые, человеческие массы.
Осталось чуда ждать: а вдруг, а вдруг
Чудачествами новой Лисистраты6
Порвётся прежних страт порочный круг
И именем Народ заменит страты.
«Когда у женщины велик запас словарный…»
Когда у женщины велик запас словарный,
Она не часто и по делу говорит.
Но это случай, прямо скажем, антикварный,
Нам шепчет опыт искушения коварный,
Что женский род на этот счёт не даровит.
В одной из тысяч… ста звучит приятный зуммер,
Огонь поэзии вмещается внутри.
Гораздо чаще, предлагая неразумно
Запретный плод или яичницу-глазунью,
Она бросается коротким словом: «Жри!»
Но впрочем, это предсказуемо ложится
На график гауссовой чёртовой кривой,
А небожитель, если встретится, божится,
Что слово «Жри!» в законном праве бросить жрица,
А над Невой – с приятным бонусом: «Не вой!»
Идите вы… в бухгалтерию!
Сказала жены моей чудо-мамаша:
«Поэзию вашу на хлеб не намажешь!»
А я ей ответствовал, баттл итожа:
«И вашу, пардон, бухгалтерию – тоже!»
Это какой-то трэш!
Это какой-то трэш,
Обморок дубль три.
Мама сказала: «Ешь!»
Тёща сказала: «Жри!»
«Кушай!» – сказала ты,
Пододвигая борщ.
Это ведь дубль три!
Это какой-то ёрш!
Лопну, поди, сейчас!
Или начну рыгать…
Сложно, коль любят вас
Тёща, жена и мать!
Нет круче!
На коронавирус тест
Не сдаёт упрямо тесть,
У него иммунитет:
Круче тёщи штамма нет!
«Малыши разбивают цветные миры пузырей…»
Малыши разбивают цветные миры пузырей,
Что надуты из мыла, надежды, воды, глицерина.
На скамеечках мамы глядят отстранённо-цивильно,
Как становится мир с каждым лопнутым шаром серей.
Ну, а дующий в кольца старается щёки надуть
Так, чтоб детским ладошкам охлопать шары не успелось,
И летит над травой переливчато-свежая спелость
Отражённого солнца, избравшего призрачный путь.
Пусть играют, шалят, раз нашёл на проказников стих!
Малыши разрезвились, всё слаженней опыт движений.
Сколько схлопнуто ими ушедшей любви отражений,
В искривлённых мирах отражений твоих и моих!
Пушкиноведческое
Казалось бы, любой дебил,
Когда дебил любовь итожит,
Мог написать: «Я Вас любил»,
Но не «Любовь ещё, быть может…»!
Родственные связи
О чём выражался Чехов галантно,
Мы скажем грубей, пространней и проще:
Конечно же, краткость – сестра таланта,
И бедности мать, и гастрита тёща.
Поцелуй ветра

«Трудно на свете фатально быть одному…»
Трудно на свете фатально быть одному,
Будто и плод в одиночку в раю надкусан.
Ветер не знает, куда деваться ему
Между двумя поездами на встречных курсах.
Ладить ковчег, чтобы вместе войти с женой,
Да и детей привести в знаменатель общий —
Так рассуждал в допотопное время Ной
(Жаль, не рассказано, что там случилось с тёщей).
Даже Христос не один висел на кресте.
Даром, что справа и слева – бандитов хари.
Всё же один из разбойников опростел,
Не проклинал, а просил о небесном даре.
Ты же по лужам – что Каин в ночи идёшь,
Словно в саду холодеющем – вор Иуда.
А по следам бесконечный шагает дождь.
Всё безразлично – и оторопь, и простуда.
Входишь в обитель – пентхаус или барак,
Дверь вопрошает скрипучим баском: «Где брат твой?»
Ты понимаешь: покаяться бы пора,
Словно в который раз ошибся парадной,
Ключ повернулся в скважине, да не в той,
Сам ты ввалился в узилище, пьян и страшен.
В зеркало смотришь, а там, за немой чертой —
Вовсе не ты, а добрый доктор Лукашин.
Адонаи, от лукавого сохрани!
Хватит для Нади былого адреналина.
Плещется что-то. Быть может, там Ипполит,
Или же Лета, где Чехов ловит налима.
Этот налим на поверку – левиафан.
Гадость, однако, у вас заливная рыба!
Рельсы прокладывай, радостный Мустафа.
Новый Жиган едва ли скажет «спасибо».
В книги вгрызаешься, думаешь сделать финт,
Новую жизнь построить легко вчерне-то.
Счёт обнулён, но куда ни посмотришь – фильм,
Или же клип, или шумный мем Интернета.
Справа и слева – что вспышки: «тадам-тадам»,
Брута Хому не учили такому в бурсах.
Ветер теряется, корчится в проводах
Между двумя поездами на встречных курсах.
Звёзды
Грусть опустила корни в реку
И пьёт закатное вино.
Цикады звонким саундтреком
Встречают звёздное кино.
А там, в тиши, такие звёзды —
Не вынешь неводом окна
Улов ночной: звенящий воздух
Превозмогает тишина.
Зови на на яркую обложку —
Не дозовёшься светлых ты:
Таким на красную дорожку
Зачем спускаться с высоты?
Под тусклой лампочкой в подъезде
На землю скорби и забот
Был поцелуями созвездий
Преображён и наш приход.
Смотри! Сияет, позабыто,
И наше прошлое вдали,
Намного круче Бреда Питта
И много ярче, чем Джоли.
Касание
Бывает, срастаясь в одном касании
Неведомо как в единое целое,
пронизаны молнией узнавания,
Друг другу мы дарим взгляды несмелые.
Случайно сближаясь в тусовке рыночной
К плечу подбородком, ладонь к ладони ли,
Подветренной чёлкой, речью отрывочной
Сродняемся – как, и сами не поняли.
Так короток в нас этот миг пугающий,
Так разумом правильным мы обузданы,
Что верить не можем себе, пока ещё
Считая подарки судьбы обузами.
Душа побиваемой в кровь Кассандрою
Пророчит о чём-то, а мы не слушаем.
И всё же, не в силах забыть касание,
Таким непонятным явлено случаем,
Невольно друг к другу стремимся взглядами,
Как будто вот-вот разговор завяжется,
Как будто остались надолго рядом мы,
И это не кажется, нет, не кажется.
Всё было взаправду, всё не обманчиво.
Но вполоборота, немного бледною,
Уходит она с мажористым мальчиком,
А я остаюсь, почему – не ведаю.
Две музыки
Хулиганское кепи и модный галстук —
Неплохое начало второй главы.
Из окна у веранды в сад низвергался
Хорошо темперированный клавир.
Весь мой вид – духовой оркестр и литавры,
В обшлагах рукавов – четыре туза.
Но по клавишам резво пальцы летали
И влюблялись в созвездия нот глаза.
Увядая, букеты в вазах стояли,
Многоцветье взъерошенных хризантем.
Отражалось в распахнутом вверх рояле
На дрожании струн волнение тем.
Я ушёл на веранду и думал молча
Про напрасно оставленный макинтош —
Был весь сад неожиданностью намочен,
Гарцевал на калитке весенний дождь.
А ещё через час по широким лужам,
Приготовленный музыкой для аскез,
Уносил я под мышкой тебе не нужный
Поистративший медь духовой оркестр.
Ромашка
Окно в вагоне запотело,
Столь сыроват вагонный быт.
Забудь о том, чего хотелось,
Не жди того, чему не быть.
Судьба, тебе не потакая,
Пои́т железистой водой.
Ровесник века, подстаканник
Согреет жёсткую ладонь.
Но эта нега не достанет
До глубины души твоей,
Пока безвестный полустанок
Проходит мимо без огней.
Там, за окном – прикроешь веки:
Была она иль не была? —
Девчонке в тёртой телогрейке
Вот так же хочется тепла.
Такое видится нередко,
Сигналом «Стоп!» не сможет стать
Смешная красная беретка,
Что Красной Шапочке под стать.
Плывущих мимо целомудрий
Не разгадаешь в полусне.
Её растрёпанные кудри
Не близко, рядом, но – вовне.
И рук фарфоровая нежность —
Лишь наваждение на миг,
Когда стекло двойное между
Тобой и ангелом, старик.
Махнёт флажком и даст отмашку
На отправление твоё.
Заметил смятую ромашку
В другой ладони у неё?
Вы – кратко сближенные люди,
За полкасанья до любви.
Судьба застряла на «не любит»,
Хоть луг ромашек оборви.
И снова развела в нелепом
Стремленье суетном земном:
Ей – десять вёрст в сельпо за хлебом,
Тебе – за золотым руном.
«Сколько всего написано о любви!..»
Сколько всего написано о любви!
Что заставляет о ней вновь и вновь писать?
Останови мой поезд, останови, —
Выйду, чтоб там затеряться, в полях, в лесах.
Не заставляй меня верить в смешной лубок
Из-под пера поэта, помят и сыр,
Всё потому, что на самом деле любовь —
Больше, чем стих твой, и поезд, и этот мир.
«Может, знает о том далеко не любой…»
Может, знает о том далеко не любой,
Кто шекспировской грезит Вероною:
Равнодушием тоже бывает любовь,
К бесполезности приговорённая.
Что скорбеть над гробами Ромео, Джульетт,
Что бальзамами страсти надушены?
Ведь не пламенной страсти печальнее нет,
Но холодной тоски равнодушия.
Что такое юность
Что такое юность, вряд ли нам понятно.
То ли это глупость, то ли это прелесть.
То ли зайчик солнца, то ли тени пятна,
То ли это грубость, то ли это смелость.
Дерева и люди сходны по природе,
Пусть одни – дремучи, ну а те – цивильны.
С возрастом, должно быть, юность не уходит,
Просто затихает где-то в сердцевине.
Некогда умолкнут жизни колокольцы.
И тогда на спиле, соглашайся, друг мой,
Рассмотреть приятней годовые кольца,
Чем трухлявый опыт да гнилые дупла.
«Говорят, что море к любви остро…»
Говорят, что море к любви остро.
Выходи к прибою и им надрежь.
Говорят, что осень горит костром
На холодном ворсе твоих надежд.
Только пепел взветренный тонко пел
Над молчащей бледностью от золы.
Ты горячность юную тёплых тел
Из былого времени отзови.
Словно в фото вырежи силуэт —
Не поймёшь, крылатым был иль бескрыл.
Главное, что прошлого больше нет.
И о том, что не было, ты забыл.
Ни рабов покладистых, ни господ,
Ни всего, что водится на Руси.
Под солёным парусом горький плод
Воспалённой вольницы надкуси.
Всё равно, что Рим тебе, что Тамбов,
Всё буруны пенные в боль белы.
Это море врезалось сквозь любовь
В постамент возвышенной грусть-скалы.
«Видеть сквозь внешнюю красоту…»
Видеть сквозь внешнюю красоту
(или, напротив, сквозь некрасивость)
невоплощённую правду ту,
что не доносит телесный синапс —
в этом, наверное, есть итог
жизни, прошедшей наполовину,
многих разлук и многих тревог,
горы разглаживающих в равнину.
Ты, оказавшийся за чертой
прежней мечты (и жизни – отчасти),
не обольщаешься красотой
юности, прелести, нежной страсти.
Смотришь не гордо, не свысока,
но отдалённо – будто с обрыва,
как поднимает под облака
молодость брызги свои игриво
в тёплой реке, где прошедший дождь
стайки мальков согревал неслышно.
Дважды в прошедшее не войдёшь,
это простая заповедь свыше.
Знаешь ли? Не о чем нам жалеть!
Дар наш сейчасный своеобычен —
видеть сквозь плоть, сквозь наплывы лет
образ, что юности безразличен.
Даже и и то не бросает в дрожь,
что за спиной – с облаков и веток
тёплой рекой пробежавший дождь,
а впереди – холодная Лета.
Молчаливый колокол

Прогулка по кругу
Он с утра вспоминает про лагеря,
Где с побудкой на воздух брела усталость.
И, Великого Сталина матеря,
Доживать продолжает седую старость.
С полчаса у него – в телефон тыр-пыр,
Променад по хрустящей стеклом дорожке,
А на вечер опять вчерашний кефир,
А на завтрак – дешёвые макарошки.
Образ жизни – что скомканный документ:
Заслужить не сумел, не скопил, не нажил,
Докумекать не смог, уловить момент,
Никому не любим, никому не важен.
Никому не обязан давать отчёт
О насупленных взглядах на то и это.
А смешливое время вокруг течёт
Половодьем, подмывшим приют скелета.
И одно только светится в мир окно,
Что с приставкой дешёвенькой телевизор —
С Президентом в отглаженном кимоно,
С ежедневными шоу сверху и снизу.
Модный диктор целует экран взасос,
Новостями соитий шурша в экстазе.
Обнародован шорт, интернет-опрос,
И опять побеждает Великий Сталин!
«Вы ещё ничего не поняли?..»
Вы ещё ничего не поняли?
Перепутались «майна» с «вирой».
Старичину пустили по миру,
Наставляя: «Идите с миром!»
Нерождённые поколения,
Обесцененные в абортах,
Пенсионные накопления
Низвергают до мира мёртвых.
Коллектив идеально слаженный
Вспорот шилом оптимизаций,
И глумится гаер приглаженный
Над растерянностью внезапной.
Краснобайно плетёт, неистово
Золотые сладкие речи.
Рукоплещет страна министрами,
А старик опускает плечи:
От восторга не след подвизгивать,
Не разбухнет кошель от слов-то!
И пошёл бы правды доискивать,
Да искалка совсем отсохла…
Все мы на ринге
Я на него – с открытым забралом.
Он на меня – с открытым хлебалом.
Вряд ли такое кончится балом.
Все мы – на ринге, дело за малым…
Постоянство
Поёт, от частых песен горяча,
В отличие от тюхти-карантина,
Для короля, шута и палача
Одну и ту же песню гильотина.
Раина ошибка
В красненькой косынке, с пеной на губах,
Пыхая, как примус – не перегорая,
Над народным морем блузок и рубах:
«Смерть врагам народа!» – возвещала Рая:
«Всем, кто злых поповских слушался молитв!
Всем, кто по подвалам прятали припасы!» —
Видит краем глаза: слушает, стоит,
Синяя фуражка, алые лампасы.
Ей рукоплескали лектор и парторг.
Рая, вся пылая, вышла от трибуны.
Главное – не сразу, главное – потом,
После всех наказов и оваций бурных.
Главное, чтоб прямо, иль наискосок
Встретился в театре, у билетной кассы
Тот, кто Раю слушал, гибок и высок,
Синяя фуражка, алые лампасы.
Пламенны доклады, речи горячи.
Гулок чад тридцатых, как на портомойне.
В портмоне у Раи комнаты ключи:
Сразу отдала бы, был бы только мой бы!
Сразу отдалась бы, кабы повод был!
Без мещанской пошлой гаденькой прикрасы.
Вряд ли объезжали этаких кобыл
Синяя фуражка, алые лампасы!
Цокают бульваром Раи каблуки.
В каждой подворотне гулко отдаются:
«Смерть врагам народа!» – жизни вопреки
Демоны прогресса, эхо революций.
Раю расстреляли в комнате пустой,
Где никто не двигал пропаганду в массы.
Удивили Раю выдержкой мужской
Синяя фуражка, алые лампасы.
Нюрин век
Побег Ребекк сперва на Нюрин век
пришёлся – это помнится из детства.
Потом был год – случился Нюрнберг:
трудилась, было неколи вглядеться.
Лопатила, косила и мела
что можно было – скромно, по сусекам.
У «радива» недвижно, как скала,
Политбюро внимала и Генсекам.
Те обещали скорый коммунизм,
догнать, и перегнать, и обеспечить.
А муж, что был, глядел куда-то вниз,
по стопочке с друзьями портил печень.
Случилась Перестройка, как весна —
всю и́збу и участок подтопила.
И пенсия, как новая война,
пила ей кровь и отнимала силы.
Ходила с председателем в собес —
в райцентр довезли молоковозом,
да там сидел начальник – сущий бес,
хоть был он моложавым и тверёзым.
Начислили – хоть вой теперь, хоть плачь.
Такую не дают для долгожительств.
Какой-то хлыщ, лощёный, как палач,
смеялся: «Денег нет, но вы держитесь!»
Держалась – хоть за стенку, а жила,
на долгий век природа ей вложила
исток неистощимого тепла
и крепкие, почти мужичьи жилы.
И на детей ей жаловаться грех,
и внуки заезжают, не обидят.
«О чём жалеть? Живу не хуже всех,
Пока хожу, глаза маленько видят…»
Всё по её масштабам «вери гуд!» —
тепло избы, на плитке скудный ужин.
И никуда Ребекки не бегут,
но Нюрнберг, похоже, снова нужен.
Убить фашиста
Долгий век агиток гоношистых,
Братских неухоженных могил.
– Дед, а дед! А ты убил фашиста?
– Может статься, внучек, что убил.
Что сказать? Хотя бывало страшно,
Шли гуртом за Родину вперёд.
А убил ли – даже в рукопашной
Кто его, фашиста, разберёт?
Может он, рукой зажавши рану,
Жизнь свою от смерти уберёг
И назад к своей вернулся фрау
В сказочный фахтверковый мирок,
Может статься. А война не сказка,
Убивали, внучек, и меня.
"Мосинка" в руках, шинель да каска —
Вот и вся нехитрая броня.
А снаружи – ужас артобстрела,
Да под танком узенький окоп.
Пуля, что пропела – мимо тела.
Молчалива та, что целит в лоб.
Убивать нетрудно там решиться,
Враг в прицеле – он не человек.
Если снайпер – доведи фашиста
До последней дырки в голове.
Ну, а мы – обычная пехота,
Та царица-матушка полей,
Что убитым не имела счёта,
Хоть жалей о том, хоть не жалей.
Смерть на фронте мелет шибче мельниц.
Человек, что мною ранен был,
Может быть, фашиста этот немец
Через годы сам в себе убил.
Лишь бы жить от той напасти чисто,
Лишь бы людям, что ни говори,
Не пришлось бы убивать фашиста
Ни снаружи, внучек, ни внутри.
Памяти отца
На войне мой отец был снайпером,
а для этого нужен опыт.
Никаким заговором-снадобьем
сердце опыта не накопит.
Не бывали снайперы пленными,
отступая с боями трудно.
Но ещё трудней в наступлении
не остаться брошенным трупом.
Пристреляться ли, окопаться ли,
повлиять на выбор позиций —
всё тут некогда, но под панцирем
обороны прячутся фрицы.
Побеждать быстротою с натиском —
в этом много бравурной фальши,
и обычно в дуэли снайперской
побеждает засевший раньше.
Повезло, что с сорок четвёртого
к островам на Финском заливе
фронт держать от прорыва чёртова
их надолго благословили.
Перестрелки – пехотных далее.
Минный посвист наледь сминает.
Ну, а были ли попадания?
«Все стреляли, кто его знает!»
Вы былое слегка погуглите,
обратитесь с вопросом в Вайбер,
если что-то такое курите:
«Попадал ли во фрица снайпер?»
Попадал, только речь бравурную
он о том не доносит внукам.
Память стала немою урною
смертным стонам и смертным мукам.
Только скажет, помяв махорочку
злой цигарочки между пальцами,
и не в голос, а так – тихонечко,
будто спрятан у века в карцере:
«Что ж война? Не балетец мастерский,
шаг вприсядку жирною глиною…
А девчонки, что в школе снайперской
раньше выучились – все сгинули».
Каменные волны
Моему дедушке Егору Андреевичу
Мой дед мостил когда-то мостовые
Вблизи театра, где Шаляпин пел.
Потом в райке о гении России
Мальчишеское мнение имел:
«Как гакнет – так и свечки зашатались
Под куполом на люстрах золотых!»
Таких в театрах Франций и Италий
Едва ль прославит европейский стих!
А я храню рассказ семейный папин,
Хотя давно пополнили "тот свет"
И Фёдор свет Иванович Шаляпин,
И две войны видавший мудрый дед.
Не разнесли осколки мостовую,
Пока терпел блокаду Ленинград.
В ней каменные волны – как вживую
Несут меня на сотню лет назад,
Когда, сто лет спустя, на свете этом —
С женой, с детьми, хотя бы раз в году
По мостовой, что вымощена дедом,
До Марии́нки праздничной иду.
Сосед-жизнелюб
Запрокинулся навзничь со стопкою,
Передёрнул синюшным лицом,
И душа обнажённою, робкою
Воспарила, простясь с подлецом.
Время сталинское – был он "тысячник",
И под дикий, великий развал,
Клеветой не повязанный с присными,
Деда Шурку один7"доказал", —
Дескать, парня (пятнадцатилетнего!)
Слушал в сходке, кто молод и сед,
Что декрет не приветствовал Ленина
И повёл мужиков на Совет.
Дальше – больше: что вешал, расстреливал,
И десятка сгубил полтора
(То, что в списке – живые, расследовать
Для суда не пошли опера,
Да и суд был: сермяжною "тройкою"
Под расстрел, тридцать первого, в ночь,
Чтоб забыться гулянкой-попойкою,
От заплечного дела невмочь.
Документ о расстреле обстряпали
На второе как раз января).
Много было их, битых под страхами,
Ни за что осуждённых, зазря.
Со вдовой – три ребёнка осталося,
Ждали к Троице – маму мою;
Родилась. И к семейству без жалости
Век катился в парадном строю.
Пятилетки, победы, свершения,
Огневые, крутые дела
Заморочили все прегрешения —
Как побелка на фреску легла.
Маме сон был – от Бога, не и́наче:
Папа щуплый, в костюме, в окне.
«Как жилось-то тебе, сиротиночка,
Безотцовщина?» – молвил во сне…
Маме нынче исполнилось семьдесят,
В "День России" – её юбилей.
Преклоняюсь пред милою, седенькой,
Перед мамой любимой моей,
Перед памятью бабушки, вынесшей
Столько горя; не в пепле-золе —
В доброте воспитавшей на вымерзшей
От безбожья советской земле
Всех детей своих. Дальбы8 не вытерта
Клевета ядовитая с губ,
И когда подойдёт время выстрела —
Вновь найдётся сосед-жизнелюб.
2008
«Бабушка, моя живая совесть…»
Не стоит село без праведника,
и город – без молитвы
Бабушка, моя живая совесть,
Всей деревне дал тебя Господь
Как закваску в хлебы, или соли
На скоблёном столике щепоть.
«Про́стила»9 – одно простое слово
Изгибало козни на излом,
Где, глазами зыркая сурово,
Бегали с ружьём и топором.
Ты теперь лежишь в могилке телом,
Верно, и в земле сырой светла,
А душа к невидимым пределам
Поклониться Господу ушла.
Помолись же там об избавленье
От разжженных неприязни стрел.
Вижу я теперь твоё смиренье,
А при жизни было – не жалел…
Но, исполнен помыслов нечистых
Ставить своенравия печать,
Всё взываю: как мне научиться
Так, как ты, молиться и прощать?
6.«Лисистра́та» – комедия древнегреческого драматурга Аристофана, созданная около 411 г. до н. э. В основе сюжета – история о том, как афинянка Лисистрата, стремясь остановить нескончаемые войны, убеждает женщин греческих городов отказывать мужьям в исполнении супружеского долга до тех пор, пока не закончится кровопролитие
7.Во все времена для справедливого суда требовалось не менее двух одинаково свидетельствующих
8.Дальбы – несмотря на то, что (наше псковское-гдовское диалектное выражение)
9.Про́стила – так говорят на нашем гдовском диалекте
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.
₺2,10
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
18+Litres'teki yayın tarihi:
11 ocak 2023Hacim:
171 s. 20 illüstrasyonISBN:
9785005947666Telif hakkı:
Издательские решения