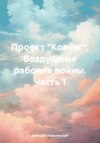Kitabı oku: «Хроноагент. Нуль-Т»
Глава 1
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, Потрусили за ствол, он упал, упал…
В.Высоцкий
Итак, решение принято и “согласовано”. Я остаюсь здесь, в 1941 году. Буду воевать дальше, не перекладывая эту тяжесть на другие плечи.Три дня подряд летаем на прикрытие переднего края. Гудериан перегруппировал свои дивизии, и сейчас бои идут на линии Хислваичи – Остер. Удар наносится через Починок опять-таки на Ельню. Далась она этому Гудериану!На земле идут тяжелые бои, и мы делаем все, чтобы облегчить задачу нашим бойцам: отгоняем бомбардировщики, сопровождаем штурмовики и пикировщики. Очевидного господства в воздухе нет ни у нас, ни у немцев. Количественно они нас превосходят, но качественное превосходство, несомненно, за нами. Кроме “Нибелунгов” никто не смеет вступать с нами в бой, не имея двойного или тройного перевеса. Но и “нибелунгам” приходится туго. Мы применяем волковские тактические разработки и, как правило, ставим немцев в безвыходное положение. Им ничего не остается, кроме как нести потери или покидать поле боя. За три дня увеличиваю свой счет еще на двух, в том числе на одного “Нибелунга”.К концу этого третьего дня из низин и речных пойм поднимается копившийся там весь день туман. Пятый боевой вылет срывается. И тогда я, договорившись с Лосевым, иду наконец в Озерки.Ольга на этот раз устроилась неплохо: в отдельной хате. Хозяин с двумя сыновьями воюет, а хозяйка работает в Починке, на станции. Операционная – в соседней избе. Гучкин там и живет. Я попал удачно. Андрей Иванович только что протопил баньку, и мы с Гучкиным, а потом и Ольга с медсестрами как следует попарились.Ольга сидит на кровати, завернувшись в простыню и свесив ноги в сапожках.– Ну, рассказывай про свои подвиги.– Какие еще подвиги?– А как ты один против десяти дрался.– Кто тебе такую ерунду сказал? Я что, по-твоему, самоубийца?– Не умеешь ты врать, Андрюша! Вон, гляди.Она показывает мне армейскую газету. Там на развороте – моя фотография и статья, где в восторженных тонах описывается бой одного “Яка” с десятком “Мессершмитов”. Бегло просматриваю статью, замечаю кучу неточностей и нелепостей, неизбежных, когда человек с чужих слов описывает то, о чем не имеет ни малейшего представления. Заключительное утверждение: “Так наши соколы бьют хваленых фашистских асов: не числом, а умением!” вызывает у меня усмешку.– Смеешься! А я ревела, когда это читала. Как ты вывернулся из такой переделки?– Если честно, то сам не знаю.– А зачем полез один против десяти?– Так надо было, Оля.– Так надо! А обо мне ты подумал в этот момент?– Если честно, то нет.– Ну и как тебя называть после этого? Герой! Вон вся газета от моих слез раскисла. Я как увижу ее, так реву. Ты же обещал мне, что не будешь на рожон лезть. А сам…Глаза Ольги наполняются слезами, она встает и прячет лицо у меня на груди.– Оленька, ты прости меня, но так было надо.– Да что ты слушаешь дуру бабу, – шепчет она сквозь слезы. – Мы бы рады вас к своим юбкам привязать и не отпускать никуда. Это моя бабья натура тебя ругает. А ты не обращай внимания, воюй, как воюешь. Я же знаю, ты не можешь иначе. И папка мой таким же был. Ну что ты меня все по головке да по спинке гладишь! Будто не знаешь, что я совсем другого от тебя жду.Простыня сваливается с ее плеч на пол, и я подхватываю Олю на руки.За окном – предрассветные сумерки. Голова Оли лежит на моем плече, и она тихо дышит мне в шею. Правую ногу она закинула на меня, со стороны можно подумать, что она спит. Но я знаю, что это не так. Слишком невесомо лежит ее рука у меня на груди. Я раздумываю, стоит ли рассказать ей о моей встрече с Седельниковым? Чем дальше думаю об этом, тем тверже решаю: нет. Не хочу омрачать ее настроение любым упоминанием этой “личности”. Я помню, как Оля вспоминала о своих встречах с ним, и не хочу, чтобы на эту ночь легла хоть малейшая тень подобных воспоминаний.– Ты хочешь мне что-то сказать? – шепчет она.– Хотел, но раздумал. Не стоит сейчас об этом говорить.– О чем же все-таки? Может быть, тебя удивило, как я вела себя этой ночью?– Нет, что ты! Это было прекрасно, но неудивительно.– Почему? Я сама себе удивлялась.– Когда любишь, стараешься доставить любимому как можно больше радости. Что же в этом удивительного?– Тогда о чем ты думал?– Понимаешь, мы с тобой живем уже четыре месяца, и до сих пор нет никаких последствий, – нахожу я тему.– Вот ты о чем! Должна тебя разочаровать. Последствия уже есть.– Серьезно?Приподнимаюсь и смотрю в ее глаза. По-моему, она не шутит.– Что, – спрашивает она, – тебя это огорчает?Я целую ее глаза, щеки, нос, уши и замираю, целуя ее губы.– Отнюдь, – говорю я, оторвавшись от любимой. – Только есть два момента. Первый: нам пора узаконить свои отношения, то есть расписаться.– Ну, это не главное. Главное, где это сделать?– Действительно. Починок непрерывно бомбят, вряд ли загс уцелел и действует. Вот что… Я договорюсь с командиром, возьму “У-2”, и мы с тобой слетаем в Смоленск.– Когда?Я прикидываю. Вчера Лосев говорил, что в Починок прибывает и будет там разгружаться танковый корпус. Наша задача – прикрыть эту разгрузку с воздуха. Это дня на два, на три, никак не меньше.
– Через три дня. И сразу сыграем свадьбу. Ты оденешься по-граждански. Платье у тебя есть, а туфли твои я сохранил.
– Хорошо. А что второе?
– А второе: тебе больше нельзя оставаться на фронте.
– А вот это вне твоей компетенции. Буду служить, сколько смогу. По крайней мере, месяца три-четыре продержусь.
– А дальше?– Дальше Гучкин заметит. А как заметит, дня не даст здесь остаться. Демобилизует, – вздыхает Оля.– Да я прямо сейчас к нему пойду и все расскажу.
– Только посмей! Учти, если ты это сделаешь, свадьбе не бывать!
– Хорошо, договорились. Я думаю, ты и сама не глупая, тем более что ты – врач. Вряд ли ты будешь без нужды рисковать здоровьем и жизнью ребенка. Только обещай мне одно.
– Что? – Если со мной что случится…
– Не говори так! – прерывает меня Оля.
– Если со мной что случится, – повторяю я и поясняю: – Идет война, а я не в летном училище курсантов готовлю. Так вот, ты должна будешь выполнить волю отца: сын должен стать летчиком.
– А дочь выйти за летчика замуж! – смеется Оля. – Это-то я тебе обещаю. Но с тобой ничего не должно случиться, пока я жива. Понял? Я на тебя зарок положила.
– Как это?
– А так. Ты что, не знал, что я – ведьма?
– Хорошо, ведьма моя, согласен. Мы будем жить долго и умрем в один день.
– Вот и славно, – мурлычет Оля и обнимает меня. Провожая меня, она спрашивает:
– Значит, свадьба – через три дня?
– Да, готовься. Прилечу сразу после обеда. Сяду вон на том поле.
– Надо платье приготовить. Где свадьбу справлять будем?
– Ясное дело, у нас. Прямо с самолета – за свадебный стол.
– Надо девчонок и Гучкина предупредить.
– Это уже твоя забота. До свидания.
– До свадьбы! – смеется Оля.
Я иду по дороге к аэродрому, а она стоит на крыльце и смотрит вслед. Чувствую этот взгляд на своей спине, но не оборачиваюсь. Не люблю на земле оборачиваться, плохая это для меня примета.
Задача нашей дивизии сформулирована предельно просто. Обеспечить безопасную разгрузку танкового корпуса на станции Починок. Лосев от себя добавляет:
– На голову танкистам не должна упасть ни одна бомба. Как это сделать, думайте. Мы встречаем “Юнкерсы” на дальних подступах. Одна эскадрилья сразу связывает боем прикрытие, а “Юнкерсов” успевают перехватить две или три другие. Когда немцев слишком много, Строев экстренно поднимает “тигров” или “медведей”. Или нас, когда немцев обнаруживают другие.
Работать в таком режиме архитрудно, приходится делать по шесть, а то и по семь вылетов в день. Хорошо еще, что не каждый вылет заканчивается боем. Но мы не жалуемся, терпим. Знаем, что такую нагрузку надо выдержать всего три дня. А это все-таки по силам даже молодым летчикам. В перерывах между вылетами договариваюсь с Лосевым по поводу полета в Смоленск на “У-2”.
Узнав, в чем дело, командир тут же записывает на 19 октября в журнал боевых заданий: “Спецполет “У-2” по маршруту: база – Озерки – Смоленск – база”. – Ради такого дела я тебе даже прикрытие выделю. А что? Вдруг тебя с супругой “мессеры” атакуют. Что будешь делать? Николаев! Прикроешь “У-2” со Злобиным и Ольгой, когда они из загса к нам полетят?
– С радостью! – смеется Сергей.
Задачу свою дивизия выполнила довольно успешно. За три дня работы в район станции сумели прорваться не более двух-трех десятков “Юнкерсов”. Утром 19 октября “медведи” отразили последний налет на Починок. Поднявшись на патрулирование в 10.30, наша эскадрилья проходит над станцией. Там пусто. Последние танки и тылы корпуса уже ушли в район сосредоточения. Значит, конец нашей напряженной работе.
Чтобы не жечь зря бензин, мы пару раз шуганули группы “Мессершмитов”, которые, впрочем, и сами не горели большим желанием связываться с нами. Тем не менее Сергей оставляет одного из них удобрять смоленскую землю. Приземлившись и зарулив на стоянку, я говорю Крошкину:
– Подготовь к вылету “У-2”, а потом займись столом. Надо, чтобы гости остались довольны. У меня под нарами десяток банок тушенки, задействуй их тоже. Иван молчит и смотрит на меня как-то угрюмо. Но мне некогда разбираться в причинах его плохого настроения. Я спешу в штаб. Там тоже какая-то унылая атмосфера. Ясное дело, все вымотались за эти дни. Ничего, к вечеру настроение поднимется. Докладываю о результатах вылета и спрашиваю:
– Разрешите лететь в Озерки и Смоленск, товарищ гвардии полковник?
Лосев, не поднимая головы от карты, тихо отвечает мне каким-то бесцветным голосом:
– Не надо лететь в Озерки, капитан.
До меня не сразу доходит смысл слов.
– А в чем дело? Планы изменились?
Федоров говорит, глядя в окно:
– Никто тебя там уже не ждет, Андрей. Нет там Ольги Колышкиной.
– А куда она делась?
Гучкин! Мне приходит в голову мысль, что Гучкин, узнав каким-то образом об Ольгиной беременности, отправил ее в тыл.
– И Гучкина там нет, – таким же тоном, не меняя позы, говорит Федоров.
– Куда же они все подевались?
– Погибли.
– То есть как?
Я все еще ничего не могу понять, точнее, не хочу поверить.
– Бомба, – нехотя говорит Лосев. – Прямое попадание, прямо в операционную.
У меня темнеет в глазах. Сделав два быстрых шага, подхожу к столу и опираюсь на него сжатыми кулаками.
– Когда? – только и могу выдавить я сквозь стиснутые зубы.
– Сегодня утром, – отвечает Жучков. – Когда “медведи” отбивали последний налет на Починок, “Юнкерсы”, удирая, сбросили груз на Озерки.
Резким ударом кулака о край стола в кровь разбиваю себе костяшки пальцев.
– За что?! За что это?! Почему не меня, почему ее? Ведь это я каждый день со смертью играю и других гроблю. А она всю войну людей от смерти спасает. Почему так? Где же справедливость?!
Федоров быстро подает мне кружку, и я залпом выпиваю водку, как воду. А он, обняв меня за плечи, говорит:
– Не надо так, Андрей. Война не разбирает, кого когда скосить. Успокойся, насколько сможешь, и иди туда. Попрощайся с ней и отдай последний долг.
Помолчав, он добавляет:
– Хотя с кем там прощаться, если прямое попадание.
Не говоря ни слова, я выхожу из штаба и на автопилоте направляюсь в Озерки. Сергей догоняет меня.
– Андрей! Я с тобой.
Я молчу. Перед глазами все плывет, а в мозгу стучит одна мысль: “За что? Почему так? Почему именно сегодня, в день нашей свадьбы?” Я был готов ко всему, но только не к этому. Что мне теперь делать в этом времени? Ради чего я должен в нем оставаться? Не помню, как мы дошли до Озерков.
Тягостное зрелище предстает перед нами. На месте операционной – большая воронка. “Пятисотка”, – машинально определяю я. Воронка больше чем наполовину засыпана землей. Вокруг нее с лопатами трудятся Андрей Иванович и шесть санитаров.
– Что делаете, бойцы? – спрашивает Сергей.
– Братскую могилу, товарищ гвардии капитан, – отвечает один из санитаров.
– Она – там? – спрашиваю я, снимая шлемофон.
Андрей Иванович втыкает лопату в землю и подходит ко мне. Положив мне руки на плечи, он тихо говорит:
– Никого там нет, тезка. Нечего туда было положить, но должна у человека в конце пути быть могила. Пусть хотя бы и такая. Я не выдерживаю и, обняв старого солдата, как отца, припадаю лицом к его груди. Он похлопывает меня по спине и бормочет:
– Не надо, Андрюша, не надо. Ты – солдат, а солдату это не к лицу.
Но я чувствую, как его слезы орошают мой затылок. Сергей берется за оставленную Андреем Ивановичем лопату. Я подхожу и бросаю в воронку горсть земли. Андрей Иванович рассказывает:
– Все они здесь: и Оленька, и Костя, и другие хирурги, и медсестры, и раненые. И я был бы здесь, да когда “Юнкерсы” загудели, она спохватилась. “Андрей Иванович, – говорит, – найди, пожалуйста, утюг. Скоро Андрей прилетит, а у меня платье только-только из вещмешка. Погладить надо”. Я только вышел, до ее хаты дошел, а сзади как ухнет! Меня на землю швырнуло, оглушило. Когда в себя пришел, смотрю, а здесь только воронка дымится.
Сергей идет в хату и приносит белое платье, в котором Ольга была с нами в ресторане в день сдачи последнего экзамена.
– Вот все, что нам от нее осталось, – просто говорит он.
Я целую край платья, как знамя, и Сергей укладывает его в могилу. Когда над бывшей воронкой вырастает могильный холмик, Андрей Иванович устанавливает на нем столбик с дощечкой. На дощечке выжжена звезда, а под ней – четырнадцать фамилий. Колышкина Ольга – третья, после полковника Веселова и Гучкина.
Я оглядываюсь. Полтонны тротила разнесли и разбросали вокруг полтора десятка человек, в том числе и балагура-добряка Гучкина, и мою Ольгу, и нашего, так и не увидевшего свет ребенка. Андрей Иванович приносит фляжку со спиртом, кружки, и мы поминаем погибших. Долго сижу у могилы. Внутри меня все молчит, там пусто. Я ловлю себя на том, что в шелесте опавшей листвы, в шорохе капель дождя пытаюсь услышать ее голос. Ведь в могиле ее нет. Она – вокруг, она – везде. Я никак не могу смириться с мыслью, что больше никогда не увижу и не услышу ее. Сергей с Андреем Ивановичем под руки уводят меня с этого места. Я все время оглядываюсь, а в голове стучит один и тот же вопрос: “Почему? Почему я тогда не обернулся?”
Глава 2
Никто не пытается говорить мне слов утешения и сочувствия. И я благодарен ребятам за это. Один только раз я заговорил с Сергеем об Ольге. Сказал ему, что она ждала ребенка. Он только зубами скрипнул. Я все так же вожу эскадрилью на задания. Точнее, это мне только кажется, что так же. В перерывах между полетами и по вечерам ощущаю на себе недоуменные взгляды ребят. Вроде все в порядке: боевой счет эскадрильи растет, задания она выполняет. Но я начинаю понимать, что ребятам становится страшно летать со мной. Все идет нормально, пока мы имеем дело с “Мёссершмитами”. Но стоит мне увидеть характерные ромбические крылья “Ю-88”, я сразу забываю обо всем. Мне начинает казаться, что именно в этой машине сидит тот самый Курт, Ганс или Фриц, который, удирая, на ходу убил Ольгу. Я уже не комэск. Багровая ярость застилает мне глаза, и я иду на “Юнкере” в лоб, напролом, невзирая на опасность. Настигаю и бью его. Стараюсь бить в упор, по пилотской и штурманской кабинам. Меня ведет одна мысль: “Карать! Карать любой ценой!” Кровь Ольги и нашего с ней ребенка застилает мне взор, и я не вижу ни атакующих меня “мессеров”, ни пулеметных трасс. Хорошо еще, что эскадрилья идет за мной. Когда этот “Юнкере” падает, я замечаю другого, и вцепляюсь в него мертвой хваткой, и бью, пока он тоже не упадет. А эскадрилья идет за мной. Она не может не идти.Боевой счет растет, задания выполняются, но Андрей Злобин из комэска превратился в мстителя и сделал вторую эскадрилью заложником своей мести. Сергей несколько раз порывается поговорить со мной, но, внимательно посмотрев на меня, отказывается от своего намерения. А до меня начинает доходить, что я не просто мщу. Я сам ищу смерти. Я зову ее, но она не приходит. Мне нечего больше делать в этом мире, мире, где нет ее, единственной, кто меня в нем удерживал. Свое основное предназначение я выполнил, что же еще? Воевать вот так, до конца войны? Сколько еще лет? Но ведь я летаю не один. Со мной моя эскадрилья, а они своей смерти не ищут, скорее наоборот. Нет, так нельзя! Каждый вечер, когда я думаю об этом, даю себе слово, что завтра ставлю точку и в бою буду держать себя в руках. Но все эти намерения куда-то пропадают при виде первого же “Юнкерса”. Пять “Юнкерсов” я сбил за три дня, но мне все кажется, что убийца Ольги жив-здоров и смеется над незадачливым “сохатым” номер 17. На пятый день в нашу избу приходит Федоров.
– Андрей, пойдем прогуляемся, – зовет он меня.
Нехотя поднимаюсь с нар. Голос Федорова грубо заглушил голос Ольги, которая мне сейчас говорила о чем-то очень важном. Я не успел разобрать о чем.Мы долго, до самого аэродрома, идем молча. Я уже наверняка знаю, о чем будет говорить со мной комиссар, не могу только понять, почему он затягивает начало разговора. Слов не находит, что ли? На него это не похоже. Комиссар начинает говорить, когда мы идем уже вдоль строя “Яков”.
– Не нравишься ты мне, Андрей. Ох не нравишься! И не мне одному.
– А ты в этом, Григорьич, не оригинален. Я сам себе не нравлюсь.
– Обнадеживающее начало. Потому я с тобой и разговариваю, прежде чем решение принять.
– И какое, если не секрет?
– Да какой уж тут секрет. Отстранить тебя от полетов. Временно.
– Совсем добить хотите?
– Не добить, а спасти. И спасти не только тебя. Ты знаешь, что с тобой люди уже стали бояться на задание вылетать? Даже друг твой закадычный, сорвиголова Николаев.
– Уже пожаловались?
– Плохо ты о них думаешь! Никто ни словом не обмолвился. Но я-то не слепой. И командир у нас не мебелью командует, а людьми. Он тоже все видит. Он-то и предложил отстранить тебя дней на десять.
– Валяйте. Вы начальство, вам и карты в руки.
– Раньше ты так не говорил, – обижается Федоров. – Если мы по каждому летчику, а тем более по комэску будем так легко решения принимать, грош нам как командирам цена! Нам не полком командовать, а кочегаркой в дальнем тыловом гарнизоне. Мы решили, что сначала я должен с тобой поговорить.
Закурив, он снова начинает разговор:
– Вроде бы все нормально. За пять дней эскадрилья сбила семнадцать немцев, из них ты – пять. Но это – арифметика. А есть еще и алгебра. А она в том, что за три дня вы потеряли двух человек. А высшая математика в том, что за последние два дня из-за тебя выполнение заданий трижды оказывалось под угрозой срыва. Не по-волковски ты стал воевать, Андрей.
Я молчу, мне нечего возразить.
– Что молчишь? Не согласен? Возьмем последний вылет. Твоя эскадрилья имела задачу: связать боем истребители сопровождения. А что сделал ты? Провел первую атаку, затем поломал строй, поломал всю картину боя и атаковал “Юнкерсы”. Атаковал в лоб! Знаешь, что бы я сделал на месте твоих мужиков? Бросил бы тебя к едрене матери, раз ты смерти ищешь, и продолжал бы выполнять поставленную задачу. Но ведь они так никогда не сделают! И что самое скверное, ты в этом уверен. Гена Шорохов никогда не оставит своего ведущего. Сергей Николаев никогда не бросит тебя одного, хватит с него и того случая с разведкой. А за ними, да что я говорю “за ними”, за тобой вся эскадрилья пошла. Результат: всем остальным надо было срочно перестраиваться, на ходу, сумбурно, устраивать сумятицу… – Федоров машет рукой. – Хорошо еще, что мы – “сохатые”. А то это была бы та каша. А человека ты потерял потому, что резко, слишком резко, как умеешь только ты да еще человек пять, изменил курс и высоту. А молодой парень так еще не умеет, да и не готов он был к этому. Оторвался, а “мессеры” и рады подарку!
– Слушай, Григорьич, не жми на мозоль. Отстраняй, да и дело с концом!
– Пошел ты знаешь куда! Не знаешь? Вот и я не знаю, куда тебя послать. “Отстраняй”! Он останавливается возле моего “Яка”, обходит вокруг и качает головой.
– “В этом бою мною “Юнкере” сбит. Я делал с ним что хотел, но тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел!”
Это он мог бы про тебя сказать. Ты посмотри на свой “Як”! Если тебе на себя наплевать, если людей своих не жалко, то ты хоть его-то пожалей. Ты ему жизнью обязан, а он тебя тоже уже боится. Смотри, сколько заплат за эти дни появилось. Так раньше не было. А сейчас! Что с тобой творится, Андрей?
Я молча смотрю на него. Неужели он не понимает? Да нет, все-то он понимает!
Федоров садится на снарядный ящик и увлекает меня за собой.
– Я вижу две причины. Первая. Ты смерти ищешь. Что ж, в своей жизни волен каждый. Я не поп, запретить тебе этого не могу, хотя и поощрять тоже не вправе. Но если тебе белый свет не мил стал, я тебя могу понять. Я сам себя на твое место поставил и понял, что и мне после этого жизнь не в жизнь стала бы. Но я бы так себя не повел. Людей своих я за собой тащить не стал бы. Я бы попросил тебя отвернуться, а сам ушел бы за “Як” и… Впрочем, нет. Это смерть глупая и оставляет неприятный осадок, на истерику похоже. Я бы, как Гастелло, в колонну бензозаправщиков! Уж этот-то маневр эскадрилья моя за мной повторять не станет. Или на таран, лоб в лоб!
Федоров снова замолкает и, выдержав паузу, продолжает:
– Итак, ни один из трех вариантов тебя не устраивает. Значит, я делаю вывод: ты хочешь продолжать воевать и наносить врагу урон. Так?
Я киваю.
– Значит, жизнь тебе не мила, но месть для тебя важнее?
– Одно слово, Григорьич, комиссар! – говорю я. – Все-то ты про нас знаешь, даже больше, чем мы сами. Я бы так емко свое состояние не выразил.
– “И любовь не для нас, верно ведь? Что нужнее сейчас? Ненависть!” – цитирует комиссар Высоцкого. – Только вот, Андрюша, мстить можно и нужно по-разному.
– Это как?
– А так, как ты за Волкова мстил. С умом, талантливо. Результат: “Нибелунг” – на земле, а ты тоже, только в другом качестве. Понятно, Волкова ты любил, но он не был твоей женой, и вместе с ним не погиб твой ребенок. И свет белый не померк, и внутри пусто не стало, и голос его по вечерам не слышался, и руки его тебя по ночам не касались. Только ненависти прибавилось и желания бить, бить и бить. Сейчас у тебя, понятно, все по-другому. Я-то понимаю, а вот Ольга вряд ли тебя понимает. Что смотришь на меня таким чумовым взглядом?
– А почему, Григорьич, ты о ней в настоящем времени говоришь?
– Читать побольше надо. Наукой доказано, что сознание человека умирает через сорок дней после физической смерти тела. Недаром все религии поминают покойника на сороковой день. Так вот, в любом случае она твое поведение никак не одобрила бы. Она знала, что ты ас, что не в твоих правилах избегать опасностей, и никогда не осуждала тебя за это. Но она очень не любила бессмысленной игры с опасностью, когда прут на рожон…
– Григорьич! А это-то ты откуда знаешь?
– Не считай меня за кудесника, я с душами умерших разговаривать не умею и мысли читать тоже. Просто я с ней разговаривал, еще летом.
– Вон оно что.
– Грош бы мне как комиссару была цена, если бы я упустил возможность с женой своего летчика поговорить. – Он вздыхает. – Мы с ней часто разговаривали… Изумительная она женщина! Не будь я вашим комиссаром, отбил бы ее у тебя. Ну, как? Мы договорились?
– О чем?
– О том, что ты нам всем, включая тебя самого, не нравишься. И что такое положение дальше терпеть нельзя.
– Сказать легко, нелегко сделать. Я сам себя казню больше всех, каждый вечер себе разборку устраиваю. А на другой день увижу “Юнкере”, и все. Вот уверен я в том, что летит в нем та сволочь, что эту бомбу на Озерки сбросила. Летит и насмехается надо мной: “Ты думаешь, отомстил? Ошибаешься, “сохатый”, другого ты сбил. А я вот он, живой! И буду жить, пока ты меня не собьешь!” Сколько же мне “Юнкерсов” расстрелять надо?! Григорьич, ты не знаешь, сколько они их в день выпускают?
– Леший его знает, наверное, много. Так что сбивать тебе их, не пересбивать. Но я знаю другое. В то утро над Озерками – это я узнал у “медведей” – прошли три “Юнкерса” 172-й группы люфтваффе. Бортовые номера 134, 139, 141. Я понимаю, что ты не успокоишься, пока не сгорят все трое. Это, конечно, трудно, но я попробую узнать их судьбу.
– Это как же?
– Есть один человек, который для тебя может это организовать.
Федоров протягивает мне пачку, я машинально беру сигарету, прикуриваю и роняю ее на землю. “Кэмел”!
– Понял, о ком я говорю? – Федоров подбирает сигарету и возвращает мне. – Так вот, он просил передать тебе, что ты ему тоже не нравишься. Вы с ним о другом договаривались. А чтобы ты поверил, просил дать тебе закурить из этой пачки. Я, конечно, ни черта не понимаю, что у тебя с ним общего и что для вас означают эти американские сигареты. Но вчера в Смоленске он сам нашел меня и расспрашивал о тебе подробно.
– Спасибо, я понял.
– Что ты понял?
– Все понял. И что корпусной комиссар говорил, и что ты весь вечер мне говорил. Лосеву передай: от полетов меня отстранять не надо. Пусть включает меня на завтра в боевое расписание.
– Ну и слава Перуну! Ты думаешь, ему легко отстранять от боевой работы лучшего аса фронта? Ладно, пойдем до хаты. По пути поговорим о завтрашней работе.
Мы идем назад, и Федоров обрисовывает мне ситуацию.
Битва за Смоленск вступила в новую фазу. Контрудары нашего танкового корпуса приостановили наступление группы Гудериана на Починок и Ельню и заставили его перейти к обороне. Но прорвать эту оборону наш корпус не смог. Сейчас обе стороны подтягивают резервы, накапливают силы. У нас на подходе свежая дивизия тяжелых танков прорыва и два полка реактивных минометов. Но немцы опережают нас на несколько часов. У Гудериана уже есть все, что ему необходимо для нового удара. Но у него возникли осложнения. Хорошо поработали наши партизаны и десантники. К северу и западу от Рославля железные дороги практически уничтожены. В Рославле скопилось огромное количество эшелонов с горючим и боеприпасами. Там как раз то, что требуется Гудериану.
Грунтовые дороги раскисли, машины не успевают, и разгрузка эшелонов производится прямо на станции, на землю. Горючее сливают в местное пристанционное хранилище. А эшелоны все прибывают и прибывают. Восточную и южную ветки десантники намеренно не трогали. Сейчас на станции скопилось бензина и снарядов столько, что, если эту свалку хорошо запалить, Гудериан надолго забудет о наступлении.
– Завтра и начнем. Первыми пойдут “колышки” и “медведи”. Они подавят зенитные батареи. Их там много, но не столько, сколько было в Белыничах. Немцы не предвидели такой ситуации и не успели создать мощной системы ПВО. Правда, “мессеров” там будет с избытком.
Второй заход – наш. Пойдем с “пешками”. Наверху постоянно будет патрулировать эскадрилья “тигров”. Поэтому непосредственное сопровождение выпадает на нас и “медведей”.
Единственное, что немцы успели сделать, это хорошо замаскировали подлинные и соорудили ложные цели. Разведка ясности не внесла, да и времени на это нет, оно сейчас работает на Гудериана. Поэтому бомбить придется все подряд. Здесь одним заходом не обойтись. Надо рассчитывать самое меньшее на пять вылетов.
– Ну как, можно на тебя надеяться? Не подведешь?
– Не подведу, – смеюсь я, – “Юнкерсам” там завтра делать будет нечего.
– Ну и ладно! А судьбу этой троицы я тебе завтра же узнаю. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи.
Комиссар уходит в штаб, а я захожу в избу. Ребята о чем-то тихо разговаривают и замолкают при моем появлении.
Смотрю на часы: двадцать два тридцать.
– Непорядок, “сохатые”. Давайте баиньки. Завтра на Рославль пойдем, рассчитывайте на пять вылетов как минимум.
Сдвигаю в сторону урчащее семейство, бесцеремонно оккупировавшее мою подушку, и закрываю глаза. Ольга присаживается рядом со мной и спрашивает:
– Что, получил? Я говорила тебе: мне твое глупое геройство не нужно. Мне нужно, чтобы ты побеждал и всегда возвращался. Возвращался ко мне. Я всегда буду ждать твоего возвращения и плакать раньше времени по тебе не буду. Я тебе это обещала. Но и ты обещал, что мне никогда не придется плакать. Я свое слово сдержала. А как быть с твоим? Или ты своему слову не хозяин? Тогда ты не мужчина! – Она вздыхает. – А я так хотела, чтобы у него, – она кладет мою ладонь себе на живот, – был отец…
Утром, получив боевое задание, мы на стоянке ждем вылета. Сергей присаживается ко мне.
– Как настрой?
– Как всегда, – отвечаю я и угощаю его папиросой.
– Как всегда – это как когда? Смотри, друже, от тебя скоро не только “Юнкерсы”, но и “Яки” шарахаться будут.
– Что было, то прошло. На эту тему можешь не беспокоиться. Будем считать, что мое состояние депрессии кончилось и мы снова начинаем воевать по-волковски. Только обещай мне одну вещь.
– Какую?
– Что ты тоже будешь водить эскадрилью по-волковски, когда меня убьют.
Сергей недоверчиво смотрит на меня, и я поясняю:
– Я, сознаюсь, эти дни смерти искал.
– Это заметно было. Ну и как?
– Не нашел. Но я с ней поговорил.
– И что она тебе сказала, если не секрет?
– Да никакого секрета. Сказала, что искать ее бесполезно, она сама меня в нужный момент найдет и что она еще никогда не опаздывала. Ну и решил я, раз такое дело, не тратить драгоценное время на ее поиски.
– Тогда зачем же такой разговор?
– А затем, что понял я: момент этот – совсем рядом.
Сергей насмешливо свистит.
– Смеешься? А зря. Я в это тоже раньше не верил, а сейчас, представь, верю. Я не рассказывал тебе о нашем разговоре с Колышкиным?
– С Иваном Тимофеевичем? Нет.
– Так вот, в июне, перед самой войной, он сказал мне: “Чувствую, совсем немного мне осталось землю топтать и по небу летать”. А его в мистицизме и в том, что он сам смерти искал, никак не обвинишь. Еще тогда он мне сказал: “Береги ее”. Это про Ольгу. А я не уберег.
– Ну, твоей вины в этом нет.
– Есть! Мне надо было сразу пойти к Гучкину и сказать, что она беременна. А я послушался ее, захотелось нам, видите ли, свадьбу сыграть. А она, когда прощались, сказала мне: “Я на тебя зарок положила: пока я жива, с тобой ничего не случится”. Теперь ее нет, стало быть, и зароку – конец.
– Слушаю я тебя и ушам своим не верю. Член партии, а несешь хрен знает что! Зароки какие-то.
– Ты не перебивай, ты слушай. Дальше-то еще интереснее будет. Разговаривал я ночью с Ольгой. Я теперь с ней каждую ночь встречаюсь. И сказала она мне: “Я всегда желала, чтобы ты возвращался. Возвращался ко мне. Ты обещал это и слово свое держал. Я обещала, что плакать не буду, и до сих пор не плачу, хотя ты ко мне больше не возвращаешься. А вот он плачет, – и на ребенка показывает, – папку зовет. Ему отец нужен. Плохо нам без тебя”.
Сергей смотрит на меня как на безнадежно больного, потом решительно встает.