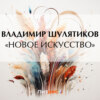Kitabı oku: «Новая сцена и новая драма», sayfa 3
Машинам и декорациям грозит самое печальное будущее. Но…. брошенный реформаторами театра лозунг продиктован, на самом деле, отнюдь не той принципиальной враждою к машинной технике, которую стараются подчеркнуть модернистские манифесты. Модернистская позиция не» сколько сложнее, чем можно предположить, если поверить ее теоретикам на слово.
Мы имеем дело с заявлениями особого типа, обычными для капиталистической буржуазии в известные моменты ее существования. Это – моменты крайнего обострения конкуренции между ее предприятиями, сопровождающейся усиленным ростом издержек производства: удешевить во что бы то ни стало производство – вот задача, выдвигающаяся тогда для промышленников на первую очередь, требующая неотложного, радикального разрешения; – иначе предстоит ликвидация предприятий, ибо производство начинает давать один убыток. Именно в такие моменты совершаются технические реформы и перевороты. Экономическая необходимость создает почву для изобретений и открытий или заставляет утилизировать изобретения и открытия, сделанные прежде, но до сих пор не удостоившиеся внимания со стороны хозяев промышленного мира. Наступает эра новых завоеваний «железа» и «машины». И чем смелее завоевательные шаги последних, чем решительнее новая машинная техника удаляется от путей господствующей техники, тем ближе к развязке разразившегося кризиса. Кризис разрешается появлением особенно усовершенствованных машин, упрощающих общий механизм производства, делающих его «в должной мере» экономным.
Старый, вытесняемый способ производства кажется отделенным от нового целою пропастью. И эта пропасть, эта разница двух технических систем учитывается идеологами авангарда капиталистической буржуазии, прежде всего, как безусловное отрицание «старого», настолько безусловное, что отбрасывается всякое представление о связи, существующей между старым и новым. Машины одного типа уступают место машинам другого типа; этот факт, в глазах модернистов, получает своеобразное освещение: смена типов машин превращается у них в замену машинного производства немашинным. Такова буржуазная логика. Конфликты, происходящие в недрах буржуазии, она постоянно квалифицирует не как внутриклассовые, а как имеющие «общечеловеческое» значение, как борьбу универсальных, отвлеченных принципов. Равным образом, реформам, предпринимаемым известными группами буржуазного класса, идеологи этих групп приписывают постоянно ценность побед «человеческого гения», – тогда как реформаторская деятельность буржуазии всецело обусловливается ее ближайшими материальными интересами и развивается там, где социальное законодательство может играть в руках собственников того или иного типа предприятий роль тарана, сокрушающего мощь их конкурентов. Точно также и в данном случае: рамки борьбы, происходящей в театральном мире, изображаются чрезвычайно расширенными. Идет состязание, согласно объяснениям модернистов, не между собственниками известных орудий и средств производства, а между двумя категориями людей, не имеющих друг с другом ничего общего, – между означенными собственниками и носителями идеала «высшей», «истинно-человеческой» «культуры». Театр завтрашнего дня, пророчествуют модернисты, будет не предприятие капиталистического характера, пользующееся всеми приобретениями развитой машинной техники и процветающее благодаря последней: этот театр заменит машину человеком; человек, с его страстями, радостями и страданиями явится, единственным, полновластным хозяином сцены, единственным объектом внимания зрителей. Вопрос о собственности на орудия производства для будущего театра, таким образом, снимается с очереди.
Модернисты – плохие пророки. Пусть театр завтрашнего дня еще не сформировался окончательно, но предварительные попытки его создания имеются уже на лицо. И эти попытки позволяют характеризовать его именно как предприятие, свидетельствующее о решительном завоевании сцены машиной. Последняя не только не будет заменена «человеком», но, напротив, заменит его собою. Вопрос о собственности на орудия театрального производства не только не потеряет своего raison d'être, но, напротив обострится… Успех синематографа убедительно доказывает несостоятельность идеологических хитросплетений театральных реформаторов.
Но и сами «реформаторы», повторяем, не принципиальные противники машины, не принципиальные апологеты «ручного», «ремесленного» производства. Трактат Jocza Savits'a вскрывает истинную подоплеку их отрицательного отношения к сценическому инвентарю современных театров.
Режиссер Мюнхенского Шекспировского театра отмечает наличность экономического кризиса, постигшего театральный мир. В Германии, говорит он, государи и города особенно щедро субсидировали драматическое искусство. Но оказывается, что даже эта богатая помощь извне не в состоянии предохранить театр от дефицита. Маниакальная страсть к роскоши и обстановкам увеличивает до бесконечности рост театральных расходов, и никакие денежные источники, как бы велики они ни были, не могут удовлетворить вполне означенной страсти. И разве это не грозный симптом, разве это не должно заставить серьезно призадуматься: «чем больше тратится средств из казны государей и городов, чем с большим великолепием воздвигаются, милостью государей и городов, театральные здания, чем более блестящей и пышной становится сценическая обстановка, тем чудовищнее нарастает дефицит, этот крест и бич, diese Crux Geissel, современного театра» (стр. 132).
«Внешняя обстановка, вся эта пагубная система увеличения блеска и роскоши виною тому, что администрация театра, подавленная огромными непосильными тратами, все более и более повышающимися, неминуемо должна центром тяжести своей деятельности считать хозяйственную и финансовую сторону дела, а не художественную» (стр. 172). Другими словами, Savits готов признать за машинами и декорациями то значение, которое они в действительности имеют, – значение фактора, определяющего состояние театральной индустрии.
Правда, его экономические рассуждения отличаются некоторой недоговоренностью. Savits не выдвигает понятия капиталистической конкуренции. Процесс увеличения «блеска и роскоши» совершается, в его изображении, каким то автоматическим, фатальным путем, очевидно в силу какой-то ничем необъяснимой и непреодолимой страсти, питаемой руководителями и владельцами театров к сложной сценической обстановке. Но подобная недомолвка все-таки не мешает ему прийти к правильному выводу относительно источника пресловутой машинобоязни модернистов. Он выясняет, что эта «боязнь», это отрицание обстановки вызваны не чем иным, как ближайшими материальными интересами театральных предпринимателей, как необходимостью сократить издержки производства.
Вскрывая данные обстоятельства, теоретик модернизма впадает в противоречие с самим собою: им одновременно предлагаются два исключающие друг друга объяснения генезиса «нового» нарождающегося театра, – объяснение экономического и объяснение идеологического характера. И первое отнимает всякий кредит у второго. Апелляции к «гению поэзии», во имя которого, якобы, предпринят весь модернистский поход, оказываются не имеющими реальной ценности: за ними остается лишь значение маски, прикрывающей известное экономическое движение.