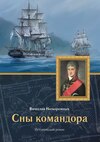Kitabı oku: «Алмазные грани», sayfa 3
В стране во время становления пролетарской науки молодая поросль советских ученых порой достаточно агрессивно расчищала свой путь, а за недостатком научных знаний наиболее беспринципные из них прибегали к системе подлога и доносов. Здесь нужно отметить, что подобное происходило и в иных многих направлениях научной работы. Показательным был разгром группы ученых-генетиков ВАСХНИЛ Николая Вавилова − известнейшего в мире ученого, человека выдающихся способностей, неутомимого экспериментатора, исследователя зерновых культур в десятках мест планеты. Вавилов стремился решить мировую проблему искоренения голода обильными урожаями улучшенных сортов зерновых, собрал уникальную коллекцию семян зерновых культур мира, а умер от физического истощения в одиночной камере в Саратовской тюрьме.
Всесоюзное геологическое совещание состоялось в канун октябрьских праздников. Праздничные мероприятия готовились с размахом, учитывая их юбилейный характер: в стране праздновали двадцать лет победы революции. Участники совещания тщательно готовились к полемике, ожидая жаркую схватку после представленного в Госплан отчета, в котором указывалось на необходимость развертывания поисковых работ на севере Сибири и Якутии.
Арсений Баров в противовес отчету группы Мушкетова, который в эти дни находился в тюрьме, представил обширную записку о состоянии изученности алмазоносности Урала. В записке подробно излагалась история находок алмазов, сделаны акценты на том, что только на Урале в настоящее время добываются редкие кристаллы. Этой добыче уже более ста лет, но каких-либо кимберлитов никто не видел! Таков был эмоциональный посыл записки Арсения Барова, а главный вывод представленного документа состоял в том, что если работы с Урала перевести в Сибирь, то страна совсем останется без ценного сырья. При этом было общеизвестно, что Урал давал на самом деле очень малое число алмазов, которого не хватало даже для удовлетворения ничтожно малых потребностей. Следуя модели ассоциации месторождений с магматическими формациями «уральского типа», ряд геологов продвигали теорию, что алмазы в СССР имеют иную природу происхождения, в сравнении с африканскими. Ориентировались на происхождение алмазов в процессе извержения горных пород из недр и с формированием трапповых интрузий. Поэтому при поисках алмазов авторами теории предлагалось ориентироваться на минералы трапповой ассоциации, а основными поисковыми признаками считали присутствие в пробах хромита и самородной платины.
Такая концепция одержала верх, не получив сопротивления, и продолжала развиваться до самого открытия якутских алмазов, затянув процесс поиска до середины пятидесятых годов.
Федоровский, как один из основных соавторов программы поисков алмазов по методике, основанной на поиске кимберлита, отсутствовал на совещании, хотя его доклад был заявлен и воспринимался как серьезный аргумент в научном споре.
За Николаем Федоровским пришли ночью в конце октября. Он был уже морально готов, поскольку знал о волне арестов, и темный кожаный саквояж с бельем и другой мелочью, столь нужной в тюрьме, стоял наготове в прихожей. Арест прошел буднично, если не учитывать столь позднее время. Скорые сборы и прощание с дочерью и женой уместились в несколько минут. Через час состоялся первый допрос, на котором молодой следователь с красноречивой фамилией Хват вкрадчиво сообщил Федоровскому, что заговор, который они готовили с группой геологов, раскрыт, а их лидер Мушкетов во всем сознался. Вышагивая мимо сидящего у стола Федоровского, следователь методично излагал свою версию страшного преступления и то, что арестованный должен отвечать на вопросы честно и понести заслуженное наказание за измену.
Хват, молодой еще человек, явно с окраин полыхавшей после революционных событий империи, с болезненными от недосыпа и пьянства глазами, явно гордился собой: малообразованный еще вчера пацан из трущоб задавал академику, как ему казалось, умно поставленные вопросы:
− Гражданин Федоровский, вы не отрицаете того, что, выезжая в зарубежные поездки, на так называемые конгрессы, имели связь с представителями других стран?
− Не отрицаю. Общение и полемика – суть научной дискуссии.
− О чем вы говорили с зарубежными учеными, поступали ли от них предложения о сотрудничестве?
− Говорили о науке, а сотрудничество ограничивалось только лишь предложениями об обмене результатами исследований в порядке обсуждения.
− Обмен? То есть вы предлагали предоставлять информацию о состоянии дел в СССР?
− Нет, обмен научными результатами, диалог и полемика, не более того. Диалог − это один из вариантов поиска научной истины, гражданин следователь. Никакой запрещенной или закрытой информации я не предоставлял зарубежным коллегам.
− Странно. А вот ваш коллега Мушкетов уже все нам рассказал о том, что, будучи в Кейптауне, вы вовлекли его в группу с участием английского профессора Бреди, чтобы навредить отечественной геологии и пустить поиски алмазов в СССР по ложному пути.
− Извините, но это бред. Алмазы не могут появляться по чьей-либо прихоти. У природы свои объективные законы.
− Не сметь хамить! У нас есть добытые на допросах факты о твоей, гнида, вражеской деятельности!
Арест главного наставника ленинградских геологов-алмазников Дмитрия Мушкетова, а затем и Николая Федоровского заранее определил результаты и основные выводы Всесоюзного совещания. Высказаться в поддержку африканской кимберлитовой теории никто не решился, и с трибуны звучали бодрые доклады об успехах отечественной геологии, о перспективах открытия алмазных месторождений на Урале, здравицы в адрес великого Сталина и родной коммунистической партии большевиков.
Арест Мушкетова и Федоровского оказался удобным для тех, кто перевел важную производственную и научную проблему в плоскость классовой борьбы. Оба ученых закончили университет и успели послужить науке до революции. Федоровский и Мушкетов были известны в научном мире, периодически выезжали за рубеж для участия в научных конференциях и конгрессах, где играли заметную роль. Этого всего было уже достаточно, чтобы видеть в них вероятных противников развития страны, людей, вынашивающих планы навредить и ослабить ее. Особенно выделялся, конечно, Мушкетов, как профессор-геолог из яркой династии и семьи горных инженеров прежней России, отметившийся на высоких должностях. Не преминули напомнить Мушкетову и о том, что его маменька Екатерина Павловна, в девичестве Иосса, происходила из известнейшей в Петербурге семьи потомственных горных инженеров из обрусевших немцев.
В феврале 1938 года многие арестованные профессора и ведущие в стране ученые-геологи были расстреляны в соответствии с приговором выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР. Исполнение приговора, следуя жестким революционным принципам, выполнили в тот же день в расстрельной комнате Бутырки, стены которой пропитаны кровью тысяч убитых здесь людей: апелляции от изменников Родины рассматривать было исключено.
Среди расстрелянных был и Дмитрий Иванович Мушкетов.
После расстрела Мушкетова о Федоровском как бы забыли, но весной, когда распускаются вслед за листвой все надежды и хочется верить в лучшее, ему огласили приговор. Измученный тюрьмой, долгими допросами и побоями, Николай Михайлович узнал о том, что осужден на пятнадцать лет лагерей без права переписки с последующей ссылкой на поселение. Тут же из Академии наук последовало решение об исключении его из состава членов научного сообщества как врага трудового народа.
За несколько лет лагерной отсидки Федоровского помотало от Воркуты до Красноярска. На всех этапах этого тяжкого пути быт и атмосфера пребывания были ужасающими. А с другой стороны, что мог ждать человек в заключении, осужденный как враг трудового народа? Тяжкий и часто совершенно бессмысленный физический труд, истощение, бесконечный холод и сырость, унижение и предчувствие смерти, которая ходила всегда рядом и скалилась пастями надрывающихся в безумном лае собак, издевками и провокациями охраны, непроходящими болезнями и недомоганием, когда, просыпаясь утром, не до конца уверен, жив ты или уже умер. А уловив, что все-таки жив, не радовался, а начинал скорбеть всей душой, ожидая новых тягот и унижений. Тяжко было все это переживать, и, хотя имеется проверенное утверждение, что ко всему привыкнет, приспособится человек, в возрасте под шестьдесят лет процесс обязательного привыкания давал сбои. Человек терял себя, его инстинкты отключали рецепторы человечности, милосердия, сострадания, оставляя только те, что отвечали за минимальную программу выживания.
Бараки, окруженные глухим деревянным забором, разместились на окраине Красноярска вдоль несущего обильные стылые свои воды Енисея. За обширным водным потоком был виден заросший кустами, деревьями и травой остров Татышев. Вытянувшийся вдоль русла реки остров, названный так по имени князька из енисейских киргизов, что хозяйничали в этих местах до оседлавших местную Стрелку казаков. Казаки когда-то спустились по реке от Енисейска и открыли для себя «…на яру угожее место, высоко и красно… де острог поставить мочно». Бились долго еще воинственные, крепкие да бородатые пришельцы за право распоряжаться здешними «угожими» местами со свирепыми киргизами-хакасцами, и не раз острог пылал и выгорал дотла. Но, едва переставали дымиться головешки срубов, неизменно поднималось городище из пепла, извещая звоном колоколов, что отныне земля эта московскому владыке подчинена и сеет окрест православие и божественные призывы о спасении души человеческой.
Стрелка на Енисее – центр города, застроена плотно вдоль берега. Здесь река делится на два потока, омывая остров. У Стрелки над всем городом на крутом берегу возвышается островерхий кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. За время советской власти собор обветшал, осыпался штукатуркой, прохудился кровом, лишился всех крестов и колоколов. Но, переживая тяготы войны, в последний год, когда вдруг просияло в сознании верховной власти, что божественное начало все же имеет смысл взять на службу во имя спасения в страшной войне, дали послабление и разрешили справлять обряды. Местный батюшка быстро организовал приход, и уже к Пасхе зазвенели нестройно три отлаженных, невесть откуда взявшихся на звоннице колокола. Потом с севера привезли на подводах монахи из Енисейска из скита у Монастырского озера еще два колокола, и обряд церковный зазвучал стройнее.
Когда звонят колокола собора, по воде божественный трепет долетает и до лагеря, и у многих от этого звона светлеют лица, разглаживаются глубокие горестные складки у носа, и теплеют глаза. Как сердечный привет издалека от близкого человека, этот звон помогал жить ‒ встраивал в погибельную систему какую-то живительную струну-надежду, мосток веры, крепил иммунитет души. Казалось, что несчастные люди за колючей проволокой и в окружении злых псов не забыты вовсе, что есть тот, кто помнит о них.
И даже конченые уголовники, этакие вывертыши душой наизнанку, отморозки, не верующие в Бога, не имеющие в душе и малейшего сострадания к ближнему, при звуках, мягким мелодичным звоном напоминающих миру о Его присутствии, замолкали, переставали сквернословить и, насупленные, отходили в сторонку. Знать, думал каждый о суде, что ждет его в назначенный день и час. А может, и не думал, но подсознательно ощущал бередение души, истонченные позывы к спасению. Бывало замечено, что и некоторые из уголовников, отбывающие срок за тяжкие свои дела, крестились, порой таясь в сторонке. В такие минуты приходило осознание, что помогает колокольный трепет преодолеть тяготы лагерной жизни и вымолить какое-то прощение до грядущего чистилища.
Место, где теснился лагерь, было красиво своим природным ландшафтом, но совершенно испоганено человеком. Кроме уродливого лагеря для заключенных с бесконечными атрибутами насилия, надрывным, словно простуженным, лаем сторожевых псов, деревянных нескладных вышек и слепящих ночью прожекторов, выжигающих глаза, портили вид пыльные грязные дороги, вдоль которых валялись брошенными обломки механизмов, стволы деревьев, комья вывороченной земли и бесконечные ряды ящиков и мешков с химическими реагентами, что хранились прямо под открытым небом, раздуваемые ветром окрест.
Лагерь разместили на окраине крупного города у железнодорожной магистрали и проброшенной от нее к причалу на реке ветке-узкоколейке, чтобы перевозить от станции у деревни Злобино к пристани многочисленные грузы для Норильского горного комбината. Комбинат за полярным кругом натужно трудился, чадя и ухая механизмами: извлекал в муках людских и механических сил на поверхность миллионы тонн пустой породы и руды, чтобы заполнить металлургические котлы и выдать столь нужные для машиностроения редкие и дорогие металлы – медь да никель. Зэки, размещенные в лагере, работали на станции и на причале, перемещая прибывшие материалы, оборудование и разнообразные стальные конструкции для комбината. Работа велась тяжкая: двигались, порой день и ночь, огромные краны, освещенные тусклыми фонарями и яркими, как всполох огня, прожекторами; сновали заморенные тяжким трудом люди, груженные мешками, ящиками; громыхали на ухабах подводы; то и дело ревели судовые сигналы-ревуны.
Над всем этим суетным мирком висели сумеречная безысходность и частая в этих местах на стыке сезонов непогода.
Ранним утром группы заключенных выводили из-за дощатых невзрачных ворот лагеря и направляли двумя потоками на станцию Злобино и к пристани. Угрюмый поток несвободных людей сопровождался рыком собак и молчаливой угрозой раздраженных ранним подъемом солдат охраны.
На погрузке и разгрузке проводили день, прерываясь на короткий обед. Обеда ждали пуще воли, особенно в холодные зимние и слякотные дни межсезонья под ветхим навесом, что едва прикрывал всех от небесных слез: в такие дни казалось, что плакало все вокруг − природа, небо, склонившиеся ветви берез, лапы елей, и даже дороги слезливо хлюпали лужами и раскисшей глиной. Если везло, то к обеду привозили еще теплую кашу или суп, и тогда жизнь становилась чуть краше и в душе пыталась гнездиться и расти надежда на лучшую долю.
Приняв в один долгий, казалось, глоток свою пайку, посмаковав за щекой краюху серого, как мышиная шкурка, хлеба, охмелев от еды, садился Федоровский на корточки и, прильнув исхудавшей до скелета спиной к стенке какого-либо строения или к забору, начинал грезить, прикрыв глаза, чтобы хотя бы на минуту улететь в иную, теперь абсолютно мнимую реальность. Приходило от чего-то видение своего малолетства, когда тайком, скинув сандалеты, мчался босой по выбитой до пыльной пудры дороге и кайфовал от того, что между пальцев при ударе ступней ноги в пыль-пудру пробивались фонтанчики. А как необыкновенно бежалось по этой горячей, такой ласковой пыли! И было все нипочем и весело, когда нянька, углядев босоного своего воспитанника, облаченного с утра в матросский светло-голубой костюмчик, причитала:
− Коленька! Коленька! Перестань! Где твои ботиночки, сынок!
А Коля теперь в виде побывавшего в забое шахтера, да еще и без обуток, чумазый, но озорной и веселый, мчался мимо няни, зная, что она не накажет, она любит его и даже маме не выдаст за шалости.
− А − там! Бросил у колодца! Мам Лиз! А там у колодца растут пиньоны! – вдруг переключался на иную тему босоногий шалун, вспомнив, как у колодца нашел сначала таинственные растрескавшиеся бугорки земли, а когда, немного остерегаясь – стоит ли? − стал осторожно ковырять палочкой, обнаружил плотные белые шляпки, так крепко пахнувшие грибами. Запомнить длинное слово, что мама ему говорила, не удавалось, и осталось в памяти укороченное имя пришельцев из подземного царства.
− Как ты сказал? – смеялась уже мама.
В летнем нарядном платье мамочка вышла на крыльцо из комнаты посмотреть на своего мальчика:
− Шампиньоны, проказник!
И было понятно, что и мама не сердится на своего малыша, и потому на душе становилось совсем легко и празднично.
Вспоминалась Федоровскому и долгая, до боли в лобной части головы работа над громадой материала, что он привозил из дальних экспедиций. Это были схемы, зарисовки, карты, образцы, скорые записи в дневниках, на которых были следы дождя, пыль далеких экспедиций и тяжелых, часто как работа Сизифа, маршрутов.
Помнился в деталях его заваленный аккуратными стопками папок и книг письменный стол со старой лампой, рядом с которой он просидел тысячу и еще не одну ночь, помнилась наполненная светом и воздухом веранда на даче, где под шум листьев берез и дождевых капель были записаны многие статьи и разделы книг. Помнилось, как порой приступив к работе свежим утром под пение птиц, так увлекался, что только приглашение к вечернему чаю отвлекало от работы и весь день умещался, казалось, только на один вздох и выдох.
Вспомнил Федоровский неожиданную встречу с медведем в отрогах Саян, когда, поднимаясь по крутому склону, увидел стоящего на другой стороне хребта зверя. Тот замер на двух лапах, вытянувшись солдатиком – лапы «по швам», с совершенно умильным от удивления выражением на косматой морде, измазанной черникой, что обильно росла в сосняке на склонах. Видение это было кратким – молодой пестун, уловив запах неведомого ему зверя, тут же скрылся, огласив окрестности треском ломающихся под его лапами веток стланика.
Вспоминал профессор своих юных студентов, их пытливые глаза, которым часто говорил, что геолог − уникальная профессия, которую можно освоить и понять, только если как можно чаще бываешь в поле, в долгих, въедливых, порой выматывающих все силы, маршрутах.
Маршруты, этакие каждодневные походы по заданному азимуту, когда прямиком нужно перейти реку, не зная брода, или влезть на вершину островерхой горы, не ведая, как будешь спускаться на противоположной стороне гряды, уткнувшись в отвесный обрыв.
Все увиденное и имеющее отношение к предмету поисков в маршруте геолог заносит в дневник.
В дневнике указывался маршрут по азимуту и расстояние. Скромные частые заметки о том, что местность задернована и выходов пород нет, а где-то нет-нет да появится описание геологического обнажения с подробными зарисовками тонким карандашом бортов, пластами падающих и взмывающих слоев горных пород с описанием элементов залегания, многочисленных трещин и осторожные выводы о геологической природе здешних мест с размышлением − где же можно искать нужные нам поисковые признаки. Изучая свои дневники уже зимой, через несколько месяцев, а то и лет после завершенного сезона, вчитываясь или гадая над краткими заметками на полях, думая о минувшем, улетал сознанием геолог в события далекого уже полевого сезона. Упорхнув сознанием в прошлое, вынимал засохшие среди страниц цветы, отмечал следы капель дождя и вдруг вспоминал порой такие мелочи, такие детали, что, улыбнувшись, вдруг думал в нетерпении − скорей бы в поле!
Иногда в дневниках, где-то на полях были наспех остро отточенным карандашом написаны две-три строки стихотворения, фразы, пришедшие в голову в маршруте или на привале рядом с исследуемым обнажением. Это были не просто написанные слова, это были откровения, эмоциональные всполохи раскрытой, как книга, души. Так порой появлялись на свет и суд равных по статусу первопроходцев стихи и песни о геологии и людях, ей служащих. Так появлялись заветные строки для близких людей, которые иногда становились достоянием всех, кто душой принимал суть написанного.
«Люди идут по свету…»
И действительно веришь в то, что
«…это просто, очень просто,
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро –
горы, солнце, пихты, песни и дожди».
Обнажение и поисковые признаки – два величайших двигателя геологического поиска.
Определение обнажения в голове обросшего и, прямо скажем, несколько одичавшего за недели экспедиции геолога, вызывает непременно ассоциации с далеким, как видение, женским образом. Это могло быть воспоминание о любимой или жене, или однокурснице, которую разглядывал на лекции в университете, любуясь с заднего ряда открытой для взоров нежной шейкой, розовым ушком и завитками волос. В реальности обнажение − как разрез хирурга дает доступ к внутренностям, в данном случае геологической структуры, и этим вызывает неподдельный профессиональный интерес геолога. Редко какой геолог пройдет равнодушно мимо открытого взору обрыва или стенки разлома, на которых узор переслаивающихся и сложнейшим образом устроенных слоев горных пород способен многое рассказать внимательному и профессиональному взгляду.
Поисковые признаки – истинный материал, практически тропа к предстоящей находке, к открытию месторождения. Открыть месторождение для геолога − это то же самое, что открыть для себя любовь, и таким образом два основных образа в геологии сходились в единый эмоциональный и информативный ресурс: обнажение − как откровение, предмет колоссального интереса и восхищения, а обнаруженные поисковые признаки − согласие, взаимность интереса и ответных чувств.
Материал копился громадьем за период экспедиции, и сразу разгрести его не было времени, не было сил, и главное − не было интеллектуальной мощи все осмыслить в одночасье. Для этого требовалось время долгих размышлений, сопоставлений и скорых, как молния, догадок-озарений. Но в голове при насыщенной работе, в бесконечных, как затяжной прыжок из выси, маршрутах строился план будущего отчета, в котором будет создан, слеплен из отдельных фактов прекрасный материал и замечательные, складные, как песня, выводы о геологических перспективах исхоженной вдоль и поперек местности. Так рождались великие отчеты, как грезы, как путешествия в глубину истории Земли, замыслы великих геологов, изложенные так стройно, так увлекательно, что порой из строгого текста пробивался некий художественный смысл и дерзкий замысел, прорывающийся в будущий проект. Да, каждый геолог мечтатель, а еще писатель, художник и фантазер. И этого всего в нем имеется ровно столько, чтобы на ощупь, часто на удачу выйти к огромной сверкающей скале, которая сплошь из чистого металла. Да, такой сон часто снился многим в сырой палатке после чекушки разведенного спирта − огненной жидкости, что жжет душу так же, как великая идея и великий посыл к открытию, смиряя на время огонь души и возмущение разума. А как без этого, если после переправы через шумливую стылую речку зуб на зуб попасть не может и колотит так, что, лязгая зубами, можно прикусить язык. А еще когда кажется, уже нет сил, и только скрытый мотив, поставленная сверхзадача ведут тебя через полевой сезон.
Так, соприкасаясь с выявленными фактами: замерами элементов залегания слоев, образцами горных пород, взятых по ходу замысловатого маршрута, в голове зрел и прорабатывался глубинным сознанием образ геологии здешних мест. Возникал образ искомого месторождения, и представлялись, порой в деталях, схемы несметных природных залежей. Проявлялись вдруг бушевавшие здесь когда-то стихии, извержения магмы, подвижки, разломы, поднятия земной коры, вызванные всполохами земного катаклизма.
Более всего человек, занятый всю свою насыщенную жизнь размышлением, поиском научной истины, привыкая оперировать многими терабайтами материала, многими схемами, зарисовками, таблицами расчетов по немыслимым для осознания формулам и замысловатым графикам, страдает поначалу именно от того, что оказывается лишен этой своей натренированной годами интенсивной умственной работы. Мозг никогда не отдыхает, копит информацию и переходит, порой переболев от напряжения, на новый уровень понимания задачи, выявляя суть явления, превращая проблему в осмысленный и готовый к использованию образ, технологию, вариант функционирования. Осмыслив сложный и путанный материал и прокладывая траекторию логических рассуждений только с одним верным маршрутом, можно прийти к, казалось, элементарным умозаключениям и удивляться простоте и ясности решения. Но, чтобы пройти этот путь, следует перелопатить по пути тонны мусорных эффектов и ложных посылов, пустяковых выводов и заумных концепций. И это все для того, чтобы прийти к ясному пониманию, что истина − чаще всего проста, лаконична, но неожиданна, уникальна, порой парадоксальна. Но обретается ясная структура проблемы, только если ты ею переболел. И тогда, пройдя свой многосложный путь, решение приобретает немыслимую красоту, а еще крепость и формируется как кристалл алмаза в среде, испытавшей невероятное давление и нагрев.
Видимо, эти качество алмаза – редкость, простота, ясность, прозрачность, крепость, способность к метаморфозе и сделали этот минерал столь дорогим эквивалентом человеческого труда, мук и страданий.
Пройдя свой путь размышлений, роста сознания, ощутив в себе процесс прорастания и ветвления нейронов мозга, приходишь к пониманию, что истина − да, она проста, но простота эта не отражение внешних признаков предмета и явления, а некая смысловая глубинная субстанция, понятая лично тобой скрытая взаимосвязь, выявленная благодаря многим мегаваттам потраченной энергии, помноженной на миллионы килобайтов перелопаченной мозгом информации.
Без усилий и работы мозг начинает страдать, не перенося отсутствия новой для себя информации, продукта своего роста и развития. Эти страдания можно назвать и физическими, но область их распространения такова, что вгоняет человека в мучительную депрессию и полное ощущение ненужности и конечности и никчемности самого себя.
Это как у парящей свободно в выси птицы отнять крылья.
Если рост нейронов − процесс физически осязаемый и чаще всего постепенный, разнесенный во времени освоения предмета, то умирание нейронов, отключение рецепторов может быть быстрым, порой мгновенным. Это рождает колоссальный дискомфорт. При этом голова она никуда не делась, и может показаться − а почему бы ей не работать и дальше? Но выясняется − без подпитки информацией соответствующего уровня сложности, без четких постановок актуальных задач, без эмоций, сопровождающих поиск, механизм познания буксует и вскоре вовсе останавливается, переключаясь на простые функции человеческого обыденного существования и порой примитивную задачу элементарного выживания.
− Эй, доходяга! Подъем! – раздалось над утонувшем в глубоких раздумьях, граничащих со сновидениями, Федоровским.
− Заканчивать перекур! Вперед на работу! Живо шевелись!
Грезы и видения пропали, сновидения улетучились, и, немного оглушенный криком охранника, потерявшийся во времени, ошалевший Федоровский вскочил и, суетно поправляя шапку на голове, затрусил мелко вслед уходящей на работу колонне. Бежать по грязной дороге было неловко. Унизительно перебирая непослушными ногами зэка под номером 1954, на ходу с опаской оборачивался на конвойного с рвущимся злобным псом, ожидая от него нового унижения или смерти.
ВЫБОР ПУТИ
Лариса вприпрыжку спешила домой из школы.
На улице кипела зеленью и освещала мир ярким небом поздняя весна, и лето уже стучалось в двери, обещая накалить мостовые, крыши домов и весь мир жарким солнцем. Но пока светило только пробовало силы, делая изумрудными на просвет свежую листву, еще совсем не запыленную и яркую. По утрам еще было совсем не по-летнему свежо, и воздух оставался прозрачен и неуверенно трезв перед полуднем, как завязавший с выпивкой учитель физкультуры.
Милая, ставшая такой близкой школа, отпускала своих учеников, и это рождало светлую печаль, которая читалась в глазах переживающих за своих учеников учителей. Читалась тревога и в нарочито задорном громком смехе самих десятиклассников, которые, радуясь окончанию школы, испытывали состояние тревоги и оттого теснились, сбивались в тесные кучки. Грудились и с опаской ждали скорых перемен, пробуя «на зубок» грядущую полную событий почти что взрослую жизнь.
Ребята решительно, но с тревогой готовились принять решение о дальнейших своих путях-дорогах по жизни, которые так много теперь обсуждали. Говорили и они сами, общаясь, заводили разговор учителя в школе, уделяли этому время и дома обеспокоенные стремительным взрослением детей родители.
Ученики, понимая, что еще пару-тройку недель они могут побыть детьми, вдруг шалели от нахлынувших чувств и чудили, одаривали одноклассников и учителей избыточным вниманием, впитывая и фиксируя в памяти образы и запахи уходящего в прошлое детства. Впрочем, детское восприятие жизни еще не спешило уходить, и хотелось привлечь внимание своей нарочитой задумчивостью или, напротив, игривостью. Остро хотелось запечатлеть школьные образы и антураж с его запахами: мела, вытертой после урока и сохнувшей школьной доски, медного купороса, хлорки в туалете и сырого пола, протертого уборщицей Клавдией Ивановной перед самой переменой. А потому мальчишки, сговорившись заранее, сопровождаемые наиболее отчаянными девочками, вечером, раздобыв в пожарной части, что была по соседству, длиннющую лестницу, крадучись в полутьме, начертали под самой крышей школы краской «10а − выпуск 1941 года».
Дежурный инспектор пожарной станции снисходительно махнул рукой на просьбу молодых. А потом, вдруг спохватившись, отправил вслед весело несущих лестницу выпускников молодого пожарного, самого еще вчерашнего ученика. Отправил старый молодого сопроводить ребят и проследить, чтобы лестницу-то вернули на место. А юный пожарный в сияющей под фонарями каске со смехом присоединился к группе школьников, и вместе они весело двинулись к школе.
Казалось, эта надпись на века, как клятва в верности и заверение в любви любимой школе. Свершив это общее, сплотившее всех дело, хотелось быть вместе как можно дольше, и потому много говорили о грандиозных планах, смеялись и обещали друг другу скорые встречи и дружбу до скончания века.
Удовлетворив потребность увековечить память об этих полных волнений днях, гуляли чуть ли не до рассвета по набережной под сенью белых ночей и цветущих яблонь на встречных курсах с ребятами из других школ и тут же, полные открытости и таких понятных всем радостных эмоций, знакомились и братались.
Лариса очень спешила домой, помня мамин наказ не опоздать.
Лариса – худенькая, невысокого роста, прекрасно сложенная девушка с короткой стрижкой и челкой густых пепельных волос, нежными, пастельными красками лица и голубыми живыми выразительными глазами, в светлой кофточке и черной юбке, стоптанных туфлях, которых она немного стеснялась − так они были заношены, торопилась по знакомому маршруту. Лицо ее, немного овальное, с прямым носиком, с тонкими бровями и глазами, опушенными длинными темными ресницами, было особенно привлекательно, когда девушка улыбалась.