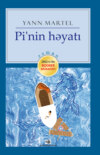Kitabı oku: «Жизнь Пи», sayfa 2
2
Живет он в Скарборо. Невысокий, худосочный парень, ростом не больше пяти футов пяти дюймов. Темноволосый, темноглазый. На висках седина. Возраст – не старше сорока. Кожа мягкого кофейного цвета. На дворе осень, но не холодно, а он облачается в широкую парку с капюшоном на меху – мы собираемся в ресторан. Лицо выразительное. Говорит быстро, размахивает руками. Но ни одного пустого слова. Все по делу.
3
Меня назвали в честь бассейна. Это тем более странно, что родители мои совсем не умели плавать. Одним из давних деловых партнеров отца был Франсис Адирубасами. Был он и добрым другом нашей семьи. Я звал его Мамаджи – от тамильского мама, что значит «дядя», а суффикс «джи» индусы прибавляют в знак уважения или благорасположения. В молодости, задолго до моего рождения, Мамаджи раз выиграл соревнования по плаванию и стал чемпионом Южной Индии. И в каком-то смысле остался им на всю жизнь. Брат мой Рави как-то рассказывал, что Мамаджи, едва появившись на свет, ни в какую не хотел выдохнуть из легких воду, и, чтобы спасти ему жизнь, врачу пришлось взять его за ноги и разок-другой крутануть над головой.
– И помогло! – прибавил Рави и как очумелый замахал рукой у себя над головой. – Он отрыгнул воду и задышал воздухом – правда, от такой встряски его телеса сместились кверху. Поэтому у него такая здоровенная грудь, а ноги как спички.
И я поверил. (Рави еще тот зубоскал. Когда он в первый раз назвал Мамаджи «мистером Рыбой», да еще в моем присутствии, я засунул ему под одеяло банановую кожуру.) Даже в свои шестьдесят, когда Мамаджи уже малость ссутулился, а телеса его после долгих лет борьбы с родовыми осложнениями заметно пообвисли, даже тогда он каждое утро трижды переплывал из конца в конец бассейн в ашраме Ауробиндо.
Он пробовал научить плавать моих родителей, но дальше тренировок на песке дело не пошло; единственное, что ему удалось, так это поставить их на колени и заставить размахивать руками, что со стороны выглядело очень смешно: когда отрабатывали брасс, казалось, что они продираются сквозь джунгли, раздвигая высокую траву, а когда осваивали вольный стиль – что мчатся с горы и колотят по воздуху руками, силясь не упасть. Да и Рави от них недалеко ушел.
Мамаджи пришлось ждать, пока не настал мой черед, – тогда-то он наконец и нашел себе прилежного ученика. В тот день, когда мне стукнуло семь лет – самое время, по словам Мамаджи, учиться плавать, – он, к матушкиному огорчению, привел меня на побережье, простер руки в сторону моря и возгласил:
– Вот тебе мой подарок.
– А потом он тебя чуть не утопил, – сокрушалась матушка.
Я оправдал надежды моего водяного гуру. Под его бдительным оком я лежал на берегу, махал ногами, загребал руками песок и при каждом гребке крутил головой то влево, то вправо, отрабатывая вдох-выдох. Со стороны я, наверное, походил на мальца, лениво бьющегося в припадке затянувшегося каприза. В воде, покуда Мамаджи удерживал меня на поверхности, я старался плыть что было мочи. Это оказалось труднее, чем на земле. Но терпения Мамаджи было не занимать, и он всячески меня подбадривал.
Когда он почувствовал, что как пловец я уже вполне созрел, мы покинули морской берег с его весело рокочущим, в пенных брызгах прибоем и отправились постигать четкую, безбурную симметрию ашрамского бассейна.
Я ходил туда все детство, три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, и ритуал этот повторялся начиная с раннего утра строго по часам, точным, как безупречно отточенный вольный стиль. Хорошо помню, как рядом со мной раздевался догола этот гордый старик, как после каждого снятого предмета одежды мало-помалу обнажались его телеса, как он смущенно отворачивался и второпях влезал в роскошные заграничные спортивные плавки. И вдруг весь расправлялся – он был готов. И в этом ощущалось и геройство, и простота. Наставления по плаванию, перенесенные вслед за тем на практику, отнимали у меня последние силы – и при этом доставляли огромную радость, особенно когда я поплыл с легкостью и быстротой, все легче и быстрее, и когда вода уже казалась не расплавленным свинцом, а жидким светом.
К морю я вернулся по собственному желанию, к постыдной своей радости; меня так и тянуло к громадным волнам, гулко накатывавшим на берег, но ложившимся к моим ногам укрощенной зыбью, – они, как мягкие лассо, арканили меня, индийского мальчугана, свою смиренную жертву.
Когда мне было лет тринадцать, я подарил Мамаджи на день рождения два заплыва баттерфляем – вышло очень даже неплохо. Правда, к финишу я так выдохся, что едва смог помахать ему рукой.
В свободное от плавания время мы говорили опять же только о плавании. И такие разговоры были особенно по душе отцу. Чем сильнее ему самому не хотелось учиться плавать, тем больше нравилось слушать, как плавают другие. Истории про плавание были его излюбленной темой в выходные дни – так он отвлекался от работы, где только и было разговоров что про зоопарк. Да и вода без гиппопотама казалась ему гораздо более укротимой, чем с гиппопотамом.
С благословения и при поддержке колониальной администрации Мамаджи пару лет отучился в Париже. То были лучшие годы в его жизни. Было это в начале тридцатых, когда французы силились офранцузить Пондишери, так же как англичане – англизировать всю остальную Индию. Уже и не помню, какие там науки постигал Мамаджи. Кажется, учился премудростям торговли. Но был он великим рассказчиком – только не подумайте, будто грезил он какими-то там науками, Эйфелевой башней с Лувром или Елисейскими Полями с тамошними кафе. Ни о чем, кроме как о бассейнах и соревнованиях по плаванию, он и не думал. К примеру, рассказывал он, старейший в городе бассейн «Писин-Делиньи»2, обустроенный еще в 1796 году, находился под открытым небом в барже, стоявшей на приколе у набережной Ке-д’Орсе, – там-то и состязались пловцы во время Олимпиады 1900 года. Впрочем, Международная любительская федерация плавания ни один заплыв не засчитала, потому как бассейн признали на шесть метров длиннее положенного. Воду в него закачивали прямо из Сены, не очищая и не подогревая.
– Она была холодная и грязная, – вспоминал Мамаджи. – В воде, протекавшей через весь Париж, собирались все городские нечистоты. А в бассейне из-за купальщиков она становилась еще грязнее.
Потом он вдруг таинственно, шепотом приводил жуткие подробности, будто в подтверждение своим словам, что у французов-де с личной гигиеной совсем беда. «В «Делиньи» было противно. Но «Бен-Руаяль», другая клоака на Сене, и того хлеще. В «Делиньи», по крайней мере, дохлую рыбу вылавливали». Но, как ни крути, олимпийский бассейн есть олимпийский бассейн – на нем лежит печать бессмертной славы. Хотя худшей помойки не сыскать, весело и лукаво усмехнувшись, заканчивал Мамаджи свой рассказ про «Делиньи».
Малость получше было в бассейне «Шато-Ландон», «Руве» или в том, что на Привокзальном бульваре. Они закрытые, стоят на твердой земле – ходи не хочу, и круглый год. Воду туда закачивали с соседних фабрик – в виде конденсата из паровых котлов, и потому была она чище и теплее. Хотя и там было пакостно, да и народу что сельдей в бочке. «Столько соплей и харкотины в воде плавало, что казалось, плывешь в медузьем месиве», – посмеивался Мамаджи.
Зато бассейны «Эбер», «Ледрю-Роллен» и «Бюто-Кай» сверкали так, что не налюбуешься, и воду туда качали прямо из артезианских колодцев. Бассейны эти были муниципальные и служили примером – эдакими образчиками совершенства. Да, был, конечно, и «Турель», еще один большой столичный олимпийский бассейн, – его открыли в 1924 году, ко вторым Парижским играм. Были и другие бассейны – всякие-разные.
Но в глазах Мамаджи ни один из них не мог тягаться с «Молитором». То была настоящая царская купель, истинная гордость Парижа, да и всего цивилизованного мира, пожалуй.
– В этом бассейне и богам было бы незазорно купаться. При «Молиторе» был лучший в Париже клуб пловцов – он-то и устраивал соревнования. Там были две ванны – одна открытая, другая закрытая. Обе размером с крохотный океан. В закрытой протянули две дорожки – для заплывов на короткие и длинные дистанции. Вода в них была до того чистая и прозрачная, что хоть набирай да кофе по утрам вари. Деревянные кабинки-раздевалки, бело-синие, располагались вокруг бассейна в два яруса. С верхнего можно было разглядеть все, что угодно. Дежурными, помечавшими мелом на дверях кабинок «занято», служили хромоногие старички – они хоть и брюзжали без умолку, зато без всякой злобы. Шум и гам – все им было нипочем. Из душей струилась приятная, горячая вода. При бассейне обустроили парилку и спортзал. Зимой открытый бассейн заливали под каток. Были там и бар, и кафе, и большой солярий, и даже два мини-пляжа с настоящим песком. Каждая плиточка, каждая медяшка или деревяшечка блестела как новенькая. Так все и было, было…
Это был единственный бассейн, после воспоминаний о котором Мамаджи умолкал: ему не хватало слов, чтобы описать все его прелести.
Мамаджи вспоминал, а отец мечтал.
И вот, когда я пришел в этот мир, став последним желанным приобретением в нашем семействе через три года после рождения Рави, меня так и назвали – Писином Молитором Пателем.
4
Наша старая добрая страна уже семь лет как была республикой, после того как приросла еще одной маленькой территорией. Пондишери вошел в Индийский Союз 1 ноября 1954 года. Одно событие местного значения тотчас повлекло за собой другое. Часть земель Пондишерийского ботанического сада отошла под замечательное дело, притом безвозмездно: в Индии был заложен новый зоопарк, и обустроили его в соответствии с самыми современными и разумными с точки зрения биологии требованиями.
Зоопарк был огромный, площадью в несколько акров, – до того огромный, что объехать его можно было разве только на поезде, хотя чем старше я становился, тем меньше он мне казался, как, впрочем, и поезд. Теперь же он стал таким маленьким, что целиком умещается в моей памяти. Представьте себе жаркий, влажный уголок, утопающий в солнечных лучах и ярких красках. Там все цветет буйным, неувядающим цветом. Куда ни глянь – непроходимые заросли деревьев, кустарников, лиан: и священные фикусы, и делоникс королевский, что именуют еще «пламенем леса», и красный хлопчатник, и джакаранда, и манго, и хлебные деревья, и бог весть какие еще, чьи названия так и остались бы для вас загадкой, если б не вбитые рядом памятные таблички. Скамейки – на каждом шагу. На скамейках всегда кто-то лежит и спит, а кто-то просто сидит, как те парочки юных влюбленных, – они робко, тайком переглядываются, а руки их, соприкоснувшись, будто застывают в воздухе. И тут вдруг замечаешь, что из-за высоких древесных крон за тобой без всякого стеснения подглядывает совсем другая парочка – жирафов. И это далеко не последний сюрприз. Уже через мгновение ты вздрагиваешь от оглушительных воплей обезьян, стаей проносящихся мимо, но их тут же заглушают пронзительные крики диковинных птиц. Подходишь к турникету. Взволнованно расплачиваешься – так, мелочь. Идешь дальше. Видишь маленькую стену. И что же там – за маленькой стеной? Не мелкая же яма с парой огромных индийских носорогов? Но как раз она-то там и находится. А когда поворачиваешь голову, упираешься взглядом в слона: ну и громадина – с ходу и не узнаешь. Зато без труда узнаешь плещущихся в пруду гиппопотамов. Словом, чем дольше смотришь, тем больше подмечаешь. Вот он какой, Зоотаун!
До переезда в Пондишери отец мой служил управляющим в одной большой гостинице в Мадрасе. Однако неизменная любовь к животным побудила его заняться другим делом – и он стал директором зоопарка. Ну и что тут такого, скажете вы, вполне разумное решение, да и какая разница, чем управлять – гостиницей или зоопарком. Неправда ваша! Как ни крути, зоопарк по сравнению с гостиницей – сущий кошмар. Только представьте: постояльцы заперты по номерам; им подавай не только жилье, но и полный пансион; к ним толпами валят гости, а среди них попадаются на редкость шумные и озорные. Чтобы у них убрать, надо обождать, пока те не переберутся, если можно так выразиться, на балконы; и вот сидишь да и ждешь, когда им наскучит окружающий вид и они снова разойдутся по номерам, чтобы затем привести в порядок и балконы; а уборка – дело нешуточное, тем более что далеко не все постояльцы соблюдают чистоту: многие неопрятны, как горькие пьяницы. Притом каждый уж больно разборчив в еде и беспрестанно жалуется, что его-де медленно обслуживают, а чаевых от таких приверед, ясное дело, не дождешься. Между нами говоря, встречаются среди них и чистые извращенцы: такие или безысходно подавлены и временами взрываются дикой похотью, или ведут себя нарочито распущенно, но и те и другие нередко оскорбляют служащих своими выходками, доходящими порой до кровосмешения. Хотелось бы вам привечать у себя в гостинице эдаких постояльцев? Вот-вот… Пондишерийский зоопарк стал неизбывным источником как редкостных радостей, так и постоянных хлопот для Сантуша Пателя – основателя, хозяина, директора, управляющего персоналом из пятидесяти трех человек, и моего отца.
А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке: ведь там я вырос. Жил я как принц. Да и какой сын махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный рык. Понятно, куда уж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро, между пятью и шестью, они как штык принимались рычать. К завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и молуккских какаду. В школу меня провожали добрым взглядом не только матушка, но и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся, зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы, не ровен час, не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами; единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там спозаранку, так это утреннего концерта: летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не в лад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов – любовался лоснящимися, будто отполированными, лягушками: у одних кожа была изумрудная, у других – желтая с темно-синим отливом или бурая с зеленоватым. Иной раз я заглядывался на птиц – розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на пичужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков… Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно – не их время, зато павианы, макаки, мангабеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то же время незабываемую: пирамиду из черепах; переливающуюся всеми цветами радуги мордашку мандрила; величавого молчаливого жирафа; громадную разверстую желтую пасть гиппопотама; попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляясь за них клювом и когтями; приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав; колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами: ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду – нет ли в кармане ореха – или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит: твоя голова не оправдала-де его надежд. А разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев. Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове – так оно вернее.
В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствуют. Пробудившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой. Щеголяют своими нарядами. Поют песни. Переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она – награда пытливому наблюдателю. Лично я бог знает сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканны, что просто диву даешься.
Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого, статного хищника – льва или гепарда (образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову). Они представляют себе, как дикий красавец зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться… а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча, любуется заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи – и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье. Отныне зверь помышляет только о свободе – и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя: дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели.
На самом же деле все по-другому.
В природе животными движут принуждение и необходимость, в дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии; страх там неизбывен, а пищи совсем не густо; приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Тогда что толку в такой свободе? И то верно: дикие звери не свободны и на воле – ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой. Теоретически, или, попросту говоря, физически, зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавочнику: давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей, общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай куда глаза глядят! Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету эдаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях с их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата человека? Да-да, так оно и есть: все звери – консерваторы, а то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, – день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое местообитание, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске. В обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит, здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг – тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа – и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае – то, чего директор зоопарка боится больше всего: симптом, предвещающий недоброе, – повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара… И все потому, что аист стоит не там, где обычно!
Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса.
Если вы нагрянете в чужой дом, вышибете ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» – думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся: «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом. Наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты этакий!»
Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше»? То же самое определенно ощущают и звери. Они – существа территориальные. И в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы: таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный: клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум, – та же территория обитания, только она много меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные местообитания огромны отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных: такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома, – стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река – там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше, притом что кругом простирались непролазные дебри, поросшие ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь «река» течет у вас из крана – только руку протяни, вымыться можно, не отходя от постели, а поесть – там же, где и стряпали; такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и огородить его – раз плюнуть. Дом – компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке – тот же самый дом, только звериный (правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище). Обнаружив там все необходимое – наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом шесть раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке точно так же, как в природе: обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой и, уж во всяком случае, не затворником, а полновластным хозяином: в замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его местообитание в природе: ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так тому и быть, – это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом да обилием тех же паразитов и врагов – во втором. Сами посудите, что лучше: жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать? Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть.
В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей: так, если зверь предупреждает нас: «Держись подальше!» – пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: «Сиди где сидишь!» – и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в обиде, и нам спокойнее, и мы можем без опаски глядеть друг на друга.
В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе: как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку: как завопит и давай лязгать дверью туда-сюда, силясь, как видно, закрыть, и так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя – тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно – в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки – медведь, и прямо на него. Плотник бросил доски и дал деру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца… И нашли в его собственной берлоге: он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался, – по стволу рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок.
Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать. И не хочу защищать зоопарки. Хоть все их позакрывайте, ради бога (и будем надеяться, последние из могикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы). Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то и другое внушает людям лишь иллюзию свободы.
Пондишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте – в моей памяти.