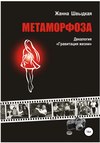Kitabı oku: «Метаморфоза. Декалогия «Гравитация жизни»», sayfa 3
Ничего не понимая, я брела вдоль проспекта. Мутными горошинами слёзы цеплялись за мои длинные ресницы, катились по щекам, висли на носу и срывались вниз, разбиваясь о подпрыгивающую от рыданий грудь чёрными кляксами от туши. Я не замечала удивлённых взглядов прохожих, на которых вдруг натыкалась плачущая девушка, не слышала нервно сигналящих машин, пытающихся объехать непонятно как оказавшегося в центре проезжей части пешехода, как и не осознавала того, что уже четвёртый час иду по каким-то улицам, чужим дворам и незнакомым паркам.
Обида. Невыразимая обида поглотила меня. Она душила в горле, жгла в груди, вонзалась шипами в сердце. Её яд окутывал разум, лишал воли и способности нормально мыслить. Я не принимала случившееся. Я отторгала его. Я словно пребывала во сне, в каком-то вязком коконе из паутины, сотканном из надежд и убеждений, освобождаться от которого никак не хотела. Я вновь и вновь повторяла себе, что произошедшее – какая-то нелепая ошибка, что вот сейчас её заметят, списки исправят, и там появится моя фамилия. «А как же я узнаю, что меня зачислили? Куда они об этом сообщат?» – вдруг встрепенулось в моём сознании. «Надо прямо сейчас вернуться и оставить в приёмной комиссии адрес тёти Жени. Нет, лучше я сама завтра утром поеду и дождусь, когда повесят новый список», – сама себе бормотала я, то разворачиваясь в неясную обратную сторону, то вновь направляясь неведомо куда. Я так верила в справедливость мира и благосклонность судьбы, что не могла даже на секунду допустить, что всё уже свершилось и ничего не изменить. Отличница по жизни, я привыкла быть лучшей, и поражения для меня просто не существовало. И даже если я в чём-то чуть-чуть не дотягивала, самую малость, то у меня всегда был второй шанс: переделать домашнее задание, вырвав лист из тетрадки, стереть ошибку в слове на классной доске, пересдать плохо выученное стихотворение и даже переписать итоговую экзаменационную работу в школе.
Как и в котором часу я оказалась дома – не помню. Судя по реакции тёти Жени, со мной творилось что-то неладное, и она тут же поехала на почту – звонить моим родителям. Я рыдала весь вечер, всхлипывала ночью во сне, и когда утром следующего дня приехали мама и тато, то обнаружили меня под одеялом на мокрой подушке с красными от полопавшихся сосудов глазами, распухшими веками и странными пятнами на лице и шее. На треснутой коже губы чернела засохшая капелька крови, руки дрожали, а при попытке что-либо сказать начинала дрожать челюсть и лились слёзы. Привычным движением тато стянул с меня одеяло, отвёл в ванную и, как в детстве, умыл моё лицо холодной водой, щедро залив пол и забрызгав стены. Сопротивляться я просто не могла, зато, вернувшись через десять минут в гостиную, уже способна была соображать. Усадив меня на стул, тато спросил, что случилось. Вчерашний день я помнила отрывочно: были списки, в которых не было меня, и бездонное чувство несправедливости. Волна обиды захлестнула меня вновь, и, захлёбываясь в соплях и слезах, я убежала в сад. Через какое-то время подошла мама и, присев рядом со мной на скамейке, постаралась успокоить. Её слова возымели обратное действие. Они рождали во мне лишь жалость к себе, а жалость мне как раз была не нужна – я верила в справедливость. В обед родители уехали, наказав непременно позвонить им вечером.
На следующий день я снова стояла на крыльце моего института, но списки меня больше не интересовали. С минуты на минуту должен был подъехать дядя Коля – тот самый сосед мамы из села Козаровка, который выбился в люди и теперь занимал высокий пост в каком-то министерстве. Именно он был для меня живым примером успеха в жизни, и сейчас именно он меня спасал. Выслушав мой сбивчивый рассказ об ошибке, он сказал, что попробует всё выяснить, смело направившись в кабинет с красивой дверью. Минут через пятнадцать меня позвали. В комнате за большим дубовым столом сидел пожилой мужчина, а перед ним лежала моя экзаменационная работа по русскому языку и литературе. Поздоровавшись, он сразу сказал, что в целом работа выполнена неплохо, вот только мной допущены исправление и одна пунктуационная ошибка. Взяв знакомые листы, я осмотрела каждую страницу – всё чисто. И лишь на последней странице красными чернилами была подчёркнута запятая и дано объяснение о том, что в данном случае употребление запятой нежелательно. Перечитала несколько раз своё предложение в сочинении и фразу проверяющего – и до меня наконец дошло, что данная формулировка не значит, что у меня ошибка с точки зрения грамматики, в противном случае её сразу бы зачеркнули без каких-либо объяснений. Всё было не так однозначно: с точки зрения проверяющего запятая казалась нежелательной, но я, как автор сочинения, была просто уверена в том, что для усиления эффекта вывода в последнем предложении запятая просто необходима. Именно в ней скрывалась вся сила предложения, и именно от этой крошечной точечки с хвостиком сейчас зависела моя судьба, а может быть, даже и жизнь – прямо как в мультфильме с фразой «Казнить нельзя помиловать»3. Никаких других замечаний по тексту не было, и, окрылённая, я вышла обратно в коридор дожидаться дядю Колю. Через несколько минут без лишних слов и эмоций он сказал, что эта запятая дала повод проверяющему усомниться в моих знаниях, – именно поэтому мне снизили оценку. Тем не менее ситуацию можно исправить. «В течение двух недель на дачу под Киевом необходимо привезти машину красного кирпича. Сейчас иди и срочно звони родителям, а вечером пускай они свяжутся со мной», – спокойно произнёс он. «Самое главное: о нашем разговоре и о том, что ты видела свою работу, не говори никому ни слова. Понятно?» – строго спросил дядя Коля. Я кивнула в ответ и, окрылённая, помчалась на Главпочтамт.
До возвращения родителей с работы оставалось ещё часа четыре, но в надежде, что кто-то придёт пораньше, я каждые тридцать минут заказывала у телефонистки разговор с Каневом, наматывая в промежутках круги на площади и вокруг фонтана. Когда наконец номер ответил и меня пригласили в будку для разговора, я полушёпотом сообщила родителям радостную новость, попросив как можно скорее привезти эту самую машину кирпича туда, куда скажет дядя Коля. В тот момент я ещё не знала, что купить строительные материалы в стране, которая сама рассыпается, на полках магазинов которой отсутствуют не только трусы и туалетная бумага, но и очередь за колбасой занимать надо с вечера, – задача почти неразрешимая. Мой светлый мир, с его коммунистическими идеалами и добром, непременно побеждающим зло, не имел ничего общего с реальной жизнью – взрослой жизнью, о которой я так мечтала и в которой делала свои первые шаги.
На следующий день я снова позвонила родителям, чтобы узнать, когда они отвезут этот кирпич на дачу. «Кирпича не будет», – сухо сказал тато. Последовавшее пространное объяснение так и не помогло мне что-либо понять. Да и как я могла согласиться с тем, что у родителей нет денег и что этот самый кирпич им просто негде взять, а на базе очередь на полгода вперёд, когда здесь и сейчас решалась моя судьба и вся дальнейшая жизнь?! Рыдая, я просила родителей продать автомобиль, занять денег у соседей, обзвонить все базы и найти этот кирпич, но ничего нового сказать в ответ они не могли. «Сегодня вечером обязательно позвони дяде Коле. Это важно», – сказал тато и передал трубку маме. Пытаясь меня успокоить, она говорила о том, что жизнь на этом не заканчивается, что я ещё поступлю, но оплаченные десять минут разговора истекли и в трубке послышались прощальные гудки.
В то время я ещё не понимала, что первопричина ответа «кирпича не будет» таилась вовсе не в отсутствии или наличии денег, связей или того самого кирпича на базе, а совсем в другом. Вслух об этом родители никогда не говорили, но действовали в соответствии со своим пониманием жизни, основанном на базовых ценностях собственной картины мира.
В человеческом обществе всегда существовали два противоположных лагеря, словно две расы, получавшие свои уникальные признаки по наследству. Первая раса – это те, кто сам брал взятки и с такой же виртуозностью умел их давать. Они делали это так же естественно, как и их предки, вне зависимости от того, стоял ли у руля царь-батюшка или вождь пролетариата. В их мире вопросы решались легко и непринуждённо, скрытые от других блага оказывались доступны, а закон работал как-то по-особому. Другая раса – это те, кто давать взятки не умел или, как им казалось, не хотел. Жили её представители внутренними принципами, чувство справедливости имели обострённое, но при этом, как только речь заходила о деньгах, постоять за свои собственные интересы, как правило, не могли, точнее – не осмеливались. И хотя внешне советское общество казалось цельным и единым, эти две расы в нём всегда незримо сосуществовали, люто презирая друг друга. Первую расу – расу коррупционеров – активно высмеивали советские сатирические журналы, их образы заполняли стенгазеты, на борьбу с ними призывали агитационные плакаты, а фильмы и книги активно доносили идею того, что взяточник – это враг народа, враг страны и даже предатель Родины, бороться с которым как раз и должен представитель другой расы. Именно представитель той самой другой расы – кристально честный комсомолец или коммунист – являлся примером для подражания тысяч советских девчонок и мальчишек. И именно он, строитель светлого общества, был призван очищать это самое общество от вредных наростов. Это было уже в крови, передавалось от родителей детям, стало частью наследственного кода советского человека. Именно к этой, второй расе принадлежали мои родители, бабушки и их бабушки. Это стало их глубинной ценностью, одной из базовых основ, составляющих их человеческую сущность. Именно поэтому они не могли допустить, чтобы моя жизнь началась с преступления. Они делали так, как велела им совесть, опираясь на своё внутреннее понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Они имели право на этот выбор. Но ничего этого я тогда не знала и, конечно, очень на родителей обиделась. Мне казалось, что меня предали, отвергли, не защитили от этого большого мира и взрослой жизни, к которой я так стремилась и которая с первого шага подставила мне досадную подножку в форме кирпича, точнее – целой машины красного кирпича, перегородившей дорогу в моё светлое будущее.
На следующий день, ровно в десять часов утра, я неспешно прогуливалась по аллее в ожидании дяди Коли. Он немного опоздал и, судя по всему, сильно торопился. Не церемонясь, тут же сказал, что с моими вступительными баллами могут взять в сельскохозяйственную академию на заочный факультет, но для этого необходимо предоставить справку о том, что я работаю в сельском хозяйстве. На мой вопрос, какие там есть факультеты, он предложил зайти в приёмную комиссию и на месте всё узнать. То, от чего я больше всего бежала, то, чего я не хотела больше всего на свете, неотвратимой волной меня же и накрыло. Проведя все свои школьные каникулы в селе, фактически лишившись детства из-за бескрайних огородов, работать на которых меня заставляли родители, пытаясь таким образом привить любовь к труду и взрастить чувство долга по отношению к старшим, к концу школы я всё это просто возненавидела. Никогда и ни за что я не хотела обратно в село, я не хотела быть аграрием и ни за что на свете не выбрала бы для себя такую же тяжёлую жизнь, как у моих бабушек! Я мечтала совсем о другом. Я мечтала жить в большом городе, работать в красивом здании, чтобы маникюр на руках, туфли на каблуке, чёрная «Волга» с водителем и личный кабинет. Я мечтала руководить страной, а не свиньями на ферме, но именно свиней, нарисованных в профиль и анфас на плакатах вдоль стены, судьба мне сейчас подкладывала. Вдобавок ко всему мне предстояло целых пять лет изучать биологию, причём изучать углублённо. Естественно, в школе по биологии у меня были одни пятёрки, но именно этот предмет я никогда не любила, не учила и не понимала, считая его недостойным обучающегося на физико-математическом направлении. Учительница постоянно болела, уроки отменяли, переносили или находили замену, исходя из принципа, что биологию знает любой, а прочитать урок по книжке может и учитель ОБЖ4. В расписании нашего специализированного класса именно уроки биологии стояли последними, и нередко именно они выступали в роли «сакральной» жертвы ради благих дел: мытья парт, уборки территории, общешкольного построения.
Когда мы вышли из здания академии, дядя Коля тут же заторопился и попросил сообщить ему моё решение вечером. Зачем ждать вечера, я откровенно не понимала. Обсуждать этот вопрос я не собиралась ни с родителями, ни с тётей Женей, ни даже с Игорем. Для меня он был закрыт в то самое мгновение, когда я услышала в названии слово «сельскохозяйственная», отозвавшееся в моей системе самоидентификации болевой точкой, на которую ненароком нажали. Конечно, само слово «академия», хотя и не дотягивало до моего понимания уровня «университета», но звучало убедительнее «института» и даже как-то интриговало, навевая мысли о науке и учёных-академиках с бородками, в очках и чёрных костюмах-тройках. Тем не менее даже этот тонкий аргумент не мог найти брешь в панцире, за которым я пряталась от самой себя и моих детско-сельско-провинциальных комплексов. Не способствовал этому и тот факт, что за годы советской власти в обществе сложилось резко отрицательное, даже какое-то пренебрежительное отношение к жителям села, которые законом были пришпилены к своим колхозам, вплоть до 1974 года не имели паспортов гражданина СССР и, по сравнению с городскими рабочими, негласно считались более низким сословием. Не случайно даже среди городских детишек самыми обидными обзывательными словами были «сельпо» или «деревенщина», которыми награждали тех, кто в чём-то недотягивал до остальных, был условно неполноценным. Одним словом, вопрос о возможном поступлении в сельскохозяйственную академию я для себя закрыла, основываясь как раз на том самом слове, которого я не хотела больше всего на свете. Я приняла это решение. Впервые в жизни приняла самостоятельное решение, несмотря на то что академия оказалась последним и единственным шансом куда-либо поступить и не возвращаться в Канев в роли неудачницы.
Я злилась на бабушек с их огородами, злилась на родителей, но ещё больше я ненавидела институт. От одной лишь мысли, что мне предстоит опять в него поехать за документами, внутри всё цепенело. Теперь он воплощал для меня вселенское зло, пронзительную несправедливость, с кричащей болью от которой я сталкивалась лишь в далёком прошлом. Он словно сорвал с раны присохший бинт, обнажив то, что я сама от себя старательно прятала. Эта безбрежная душевная боль внезапно оживила тлеющие комплексы, выпустив на свободу могучего демона. Это чувство, от которого я страдала в детстве, с которым боролась в юности и которое, как мне тогда казалось, смогла одолеть: ощущение какой-то внутренней ущербности, личностной никчёмности, чувство собственной неполноценности. Придавленный моим крепким характером, скованный моей отточенной волей, этот демон кротко сидел в своей норе, выжидая удобный момент для мести. Зная, что он всё ещё там, я нередко игралась с ним, засовывая в нору палку с гвоздем, смазанным ядом несправедливости, проверяя, жив он или нет. Как оказалось, жив и, вырвавшись наружу, мгновенно разрушил маску уверенной в себе девчонки, которую я старательно вылепливала для себя последние годы и спрятавшись за которой, бесстрашно смотрела в будущее. Ожившие комплексы вновь напомнили о том, что в этой жизни я никто, что у меня нет голоса, собственного мнения и что за меня всё решают другие. Я словно ждала этого демона, звала его, чтобы потом, прикрывшись чувством жертвы, обвинять всех вокруг в своих страданиях. Он необходим был мне – необходим для того, чтобы переложить ответственность за неудачи на кого-то другого: на бабушек, родителей, институт и саму жизнь. Я нуждалась в нём и ненавидела его одновременно. Я искала виновных снаружи, не понимая, что всё у меня внутри. Мой демон пребывал во мне, являлся частью меня, но встретиться с ним лицом к лицу мне предстояло ещё нескоро.
Глава 2. Что люди скажут
Как жить после такого провала, я не знала, как и не знала, что дальше делать. Я словно упёрлась в незримую стену, о существовании которой на своём пути даже не догадывалась, а следовательно, запасного плана тоже не имела. Для себя я, конечно, нашла железобетонные аргументы в пользу своей невиновности, но объяснить каждому встречному, что в институте меня просто «срезали», несправедливо занизив оценку и потребовав взамен машину кирпича, не представлялось возможным, к тому же я дала слово дяде Коле. Для всех теперь я была обыкновенной не поступившей в институт неудачницей. Это выставляло не в лучшем свете не только меня, но и бросало тень на школу и даже на мою серебряную медаль, которой я так гордилась. Мне было стыдно за себя: стыдно перед родителями, которым предстоит за меня краснеть, стыдно перед сестрой, для которой я не только не стану примером, но и дам повод позлорадствовать, стыдно перед друзьями, родителями друзей, знакомыми и просто соседями по подъезду. Я боялась насмешек, презрительных взглядов, колких словечек, едкого шушуканья за спиной. Я стала идеальной мишенью. Я ощущала себя голой посреди огромной площади. Вот-вот подо мной запылает костёр из общественного мнения, на котором меня сожгут.
Для меня, как и для моих родителей, мнение окружающих было всегда превыше всего. В селе, где все друг у друга на виду, где каждый знает, что сосед ест, с кем спит и у кого огород сорняками зарос, мнение живущих рядом людей играло своеобразную роль судьи, становясь локальным мерилом добра и зла. Пока человек действовал в границах существующих в данном обществе норм, на фоне других ничем особо не выделялся, ел то, что едят все, пил не больше других, воровал в меру, работал наравне со всеми, вовремя женился и умер в положенный час – до тех пор он оставался понятным и безопасным, он был своим. Но стоило кому-то выделиться, обособиться или оступиться – несчастный тут же попадал в жернова общественного мнения, которое его препарировало, разбирало до мельчайших косточек, перемывало их, перетряхивало и перемалывало в муку, чтобы, не дай бог, никакая подробность не осталась незамеченной.
С самого детства меня учили жить с оглядкой на других. «Что люди скажут?» или «Что соседи подумают?» раздавалось так же часто, как и кудахтанье куриц во дворе. Отпуская меня на улицу гулять, бабушка всегда наказывала вернуться в оговорённый час, а то люди не дай бог подумают, что она плохая бабушка и не следит за внучкой. Застав свою подружку за обедом, я не могла вместе с ней сесть за стол, чтобы не подумали, что бабушка меня не кормит. Убрать огороды в страду надо было непременно первыми, чтобы люди не сказали, что наша семья ленивая. Меня учили держать своё мнение при себе, не высовываться, не выделяться, быть как все, дабы кто-нибудь что-нибудь плохое обо мне, а заодно и обо всех моих родственниках не подумал. Моя жизнь состояла из решений родителей, опирающихся на мнение этих самых окружающих. Я надевала исключительно то платье, которое нравилось моей маме, но такое, чтобы её ребёнок выглядел не хуже других. Я подметала двор лишь потому, чтобы соседи не подумали, что здесь живут грязнули. Я училась на «отлично» лишь для того, чтобы родители хвалили, бабушки гордились и давали за это деньги и сладости. Я говорила то, что хотели слышать мои близкие, поступала так, как одобряли окружающие, думала так, как учили меня в школе, видела мир таким, каким его показывал телевизор. Моё мнение никто и никогда не спрашивал. Меня как личности не существовало. Моё «Я» так и не смогло развиться, пребывая в состоянии задушенного мнением окружающих эмбриона. Так воспитывали меня, так воспитывали моих родителей, моих бабушек, прабабушек моих бабушек – так было всегда, словно каждый член нашей семьи, а заодно и все люди нашего села и городка приходили в этот мир исключительно с одной целью: подстраиваться под окружающих. Взрослея, я продолжала пребывать в каркасе заданных с детства установок, и переменой места жительства избавиться от них было невозможно.
От себя не убежишь, но тогда я этого ещё не знала. Размышляя над своей судьбой после непоступления, я оперировала понятными мне категориями добра и зла и подвергать себя общественному осуждению, конечно же, не хотела. Кроме того, возврат домой означал для меня конец всему – конец мечтам, конец надеждам, конец самой жизни. Родители всячески пытались меня убедить, что ничего страшного не произошло, что надо вернуться в Канев, позаниматься год, а потом снова поступать, но я знала, я это чувствовала сердцем, что отступать ни в коем случае нельзя. Нельзя поддаваться на уговоры, нельзя возвращаться домой, нельзя снова попасть под влияние семьи, нельзя позволить машине красного кирпича сломать мне жизнь. Это была моя жизнь. Моё «Я» сказало «нет». Впервые я не подчинилась родителям. Вместо этого я попросила их помочь мне остаться в Киеве. Единственный вариант для этого – договориться с тётей Женей.
Никогда раньше я не задумывалась о роли других людей в своей судьбе. Я всегда считала, что по какой-то неведомой причине мне все вокруг что-то должны: должны родители, должны бабушки, а институт просто обязан был меня принять, поэтому согласие тёти Жени помочь я восприняла как само собой разумеющееся. Как само собой разумеющееся, я поселилась в бывшей комнате Игоря, оставив его жить в подвале; как само собой разумеющееся, я наблюдала за хлопотами тёти Жени по моему устройству на работу. Надо сказать, что устроиться на хорошую работу в Киеве без прописки, без образования, без опыта в советское время было практически невозможно, а если кому-то это и удавалось, то исключительно благодаря особым знакомствам или, как тогда говорили, по большому блату. Но одно дело – устроиться куда-нибудь, и совсем другое – устроиться в хорошее место, где платят высокую зарплату и выдают её без задержек. Как само собой разумеющееся, я оказалась на ставке медицинского регистратора в единственной в то время в Киеве лаборатории контактной коррекции зрения при центральной городской больнице. Чего это стоило для тёти Жени, я даже не догадывалась, видела только, что несколько раз она пекла и кому-то относила свой фирменный торт, после чего вместе со мной поехала в отдел кадров больницы.
В свои восемнадцать лет с людьми, занимающими высокие руководящие должности, мне приходилось общаться всего несколько раз, а если не считать моего крёстного дядю Петю – председателя колхоза в селе, – дядю Колю из министерства и директора моей школы, которых я воспринимала как своих, то получался один, и этим человеком как раз и был тот самый дяденька с машиной кирпича в институте. В моём представлении начальник – это как директор, только чуть-чуть поменьше, а директор – это уже почти как бог, который слеплен из другого теста, живёт в другом мире, имеет большие связи, и подчиняться ему следует беспрекословно. В его власти казнить или миловать, взять меня на работу или нет. Именно поэтому я так волновалась перед этой встречей, повторно перекрашивая стрелки под глазами и до запаха гари завивая волосы плойкой. Я хотела понравиться. Я очень хотела быть хорошей девочкой, чтобы меня взяли, чтобы я осталась жить в Киеве и надо мной больше не висел ужас возвращения в Канев.
Под дверью, обтянутой коричневым дерматином, пришпиленным гвоздями с золотистыми шляпками, стояло человек пять. Теребя белые картонные папки с матерчатыми завязками, они о чём-то полушёпотом переговаривались. Оставив меня в конце очереди, тётя Женя заглянула за дверь, откуда буквально через несколько минут вышли две женщины, одна из которых сразу же пригласила нас. Поздоровавшись, я присела на край стула и посмотрела на ухоженную даму средних лет за массивным столом с молочно-белым телефонным аппаратом, какие, наверное, были в самом Кремле, и широкой подставкой для ручек из зелёного гладкого камня с тёмными прожилками. Именно за таким столом в моём представлении и должен работать директор, и мне очень захотелось оказаться однажды по ту сторону стола. В этот самый момент я услышала вопрос: «Как дела?» и засмущалась так, что не могла произнести и слова. Мне казалось, что женщина за столом напротив видит меня насквозь, знает все мои проделки и уж тем более знает о том, что я не поступила в институт. От стыда мои щёки запылали ещё жарче, глаза наполнились слезами, и от жалости к себе я едва не заплакала. «Я поступала в институт, но недобрала одного балла. Меня просто “срезали”» – начала оправдываться я, но женщина за столом напротив тут же уточнила: «Что собираешься делать?» – «Хочу годик поработать, позанимаюсь с репетитором, и снова буду поступать», – совладав наконец с собой, ответила я. «Раньше работала? Чем приходилось заниматься?» – спросила она, не отрываясь от заполнения какого-то бланка. Я с готовностью начала рассказывать об огородах в селе, о работе в полях и на колхозной ферме и о том, как сортировала клубнику на плодоовощном заводе в Каневе. «С математикой у тебя как?» – поинтересовалась она. «В школе было “пять”!» – уверенно ответила я, протягивая в качестве доказательства аттестат о среднем образовании. Быстро записав что-то в бланк, женщина передала его мне и отправила в соседнюю комнату оформлять документы. Так у меня появилась работа, но самое главное – впервые в жизни мне встретился человек, который отнёсся ко мне как к равноправному взрослому, который не читал нотаций, не навязывал свою точку зрения, а быстро и без лишних слов помог. Я очень хотела считать Елену Григорьевну своим другом, но не смела – ведь я была безмерно ей обязана, к тому же высокая должность и строгий голос удерживали меня на почтительном расстоянии. Единственное, чем я могла отблагодарить, – это не подвести, и я очень старалась.