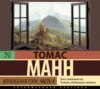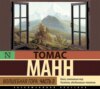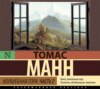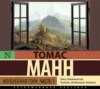«Волшебная гора. Часть 4» adlı sesli kitaptan alıntılar, sayfa 35

…как непереваренная пища не укрепляет сил человека, так же не делает его более зрелым и время, проведенное в пустом ожидании.

— Поздненько же вы приходите, господин Сеттембрини, концерт уже скоро кончится. Разве вы не охотник послушать музыку?
— Я не люблю слушать её ни по команде, ни по календарю, — отозвался Сеттембрини. — Не люблю, когда от неё несёт аптекой и она предписывается мне сверху из санитарных соображений. Я, видите ли, всё же дорожу той свободой и теми остатками человеческого достоинства, которые у нас тут еще сохранились.

А какие он употребляет выражения! Ничуть не стесняясь, говорит «добродетель»! Ты подумай! За всю свою жизнь я ни разу не решился вслух произнести это слово, и даже в школе, если в оригинале было написано «virtus», мы переводили: «храбрость». Поэтому меня невольно покоробило, должен сознаться.

— И садик он себе развёл по примеру Вергилия, — продолжал итальянец, и всё, что он говорил, было разумно и прекрасно. — Но тепло, тепло в его комнатке было ему необходимо, иначе он начинал дрожать и готов был плакать от досады, что его заставляют мерзнуть. И вот представьте себе, вы, инженер, и вы, лейтенант, как я, сын своего отца, страдаю в этом треклятом варварском месте, где тело в самый разгар лета содрогается от холода и унизительные впечатления постоянно терзают душу! Ах, как это трудно! А что за типы нас окружают! Этот болван, этот чёртов гофрат! А Кроковский! — Сеттембрини сделал вид, будто никак не может выговорить фамилию врача. — Кроковский, этот бесстыдный исповедник, он ненавидит меня за то, что человеческое достоинство не позволяет мне поддерживать его поповские штучки… А за моим столом… что за люди, и в их обществе я вынужден вкушать пищу! Справа пивовар из Галле, его фамилия Магнус, у него усы — точно пучок сена. «Оставьте меня в покое с вашей литературой, — заявляет он. — Что она изображает? Возвышенные натуры! А на что мне возвышенные натуры? Я человек практический, да и возвышенных натур в жизни почти не бывает». Вот какое у него понятие о литературных произведениях. Возвышенные натуры… О матерь божья! А напротив сидит его супруга и всё больше теряет белок, так как всё глубже погружается в тупоумие. Просто горе и гнусность!

Один сон приснился Гансу Касторпу в эту ночь даже дважды, притом повторился точно во всех подробностях, — во второй раз он увидел этот сон уже под утро: будто бы он сидит в зале с семью столами, и вдруг грохает застеклённая дверь и входит мадам Шоша, в чёрном свитере, одна рука опущена в карман, другая поддерживает волосы на затылке. Но вместо того чтобы направиться к «хорошему» русскому столу, эта невоспитанная женщина бесшумно приближается к Гансу Касторпу и молча протягивает руку для поцелуя — не ладонью книзу, а ладонью кверху; и Ганс Касторп целует ладонь этой руки, не выхоленной, а шероховатой, с короткими пальцами и заусенцами вокруг ногтей. И тогда его опять с головы до ног пронизывает то ощущение бешеного блаженства, которое он испытал, когда постарался представить себе, что освобождён от гнёта чести, и вкусил бездонные преимущества греха, — но только в этом сне ощущение блаженства было несравненно более сильным.

В прошлом году тут жила некая фрейлейн Кнейфер, Оттилия Кнейфер, она из прекрасной семьи, отец — влиятельный государственный чиновник. Она пробыла тут года полтора и так обжилась, что даже, когда здоровье её полностью восстановилось — у нас иногда выздоравливают, бывают такие случаи, — она ни за что не хотела уезжать. И она умоляла гофрата разрешить ей ещё пожить здесь, она не хочет и не может вернуться домой, здесь её дом, здесь она счастлива; но так как наплыв больных был большой и в её комнате нуждались, все мольбы этой девицы оказались тщетными, и администрация настаивала на её выписке как здоровой. Тогда у Оттилии вдруг сделался жар, температура поднялась очень высоко. Но её разоблачили, заменив обычный градусник так называемой «немой сестрой», — вы ещё не знаете, что это такое, это особый термометр без цифр, врач устанавливает температуру, прикладывая к нему измерительную шкалу, и сам чертит кривую. И оказалось, сударь мой, что у Оттилии всего 36,9 и никакого, решительно никакого жара нет. Тогда она искупалась в озере — по календарю было начало мая, а ночью у нас ещё случались заморозки, вода в озере была не то что ледяная, а — говоря точнее — всего на два-три градуса выше нуля. Она просидела в воде довольно долго, чтобы заполучить какую-нибудь болезнь, — и что же? Как была, так и осталась здоровой. И уехала в полном отчаянье, никакие утешения родителей не действовали. «Что мне там делать? — говорила она. — Моя родина здесь!» Не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба…

Я ещё никогда ни в чём не отказывал даме, но вы увидите — бесполезно совать судьбе палки в колеса. Ведь я здесь уже третий год… С меня хватит, я выхожу из игры — разве можно за это упрекнуть? Неизлечим, сударыни, видите, вот я сижу перед вами, и я неизлечим — сам гофрат, даже ради чести и репутации заведения, уже не делает из этого тайны. Так разрешите мне некоторые вольности — положение вещей даёт мне право на них. Помните, как в гимназии, когда уже решено, что ты остаёшься на второй год, и учителя тебя уже не спрашивают, и ничего уже не надо делать… Я теперь снова вернулся к этому счастливому состоянию.

Виновницей оказалась дама, вот она идёт через зал, молодая женщина, скорее молодая девушка, в белом свитере и пёстрой юбке, рыжевато-белокурые волосы просто заплетены в косы и уложены вокруг головы. Гансу Касторпу почти не удалось рассмотреть её профиль. Неслышно, словно крадущейся походкой, что странно противоречило её шумному появлению, и слегка вытянув вперёд шею, направлялась она к крайнему столу слева, стоявшему перпендикулярно к двери на веранду: это был так называемый «хороший» русский стол; одну руку она держала в кармане вязаной кофточки, обтягивающей её фигуру, а другую, поправляя волосы и как бы поддерживая их, поднесла к затылку. Ганс Касторп взглянул на эту руку. Он знал толк в человеческих руках, относился к ним требовательно и со вниманием и, знакомясь с новыми людьми, прежде всего смотрел на их руки. Эта рука, поддерживавшая волосы на затылке, была не очень-то дамской, не такая холёная и изысканная, как руки женщин из тех общественных кругов, в которых вращался Ганс Касторп; в этой руке, довольно широкой, с короткими пальцами, чувствовалось что-то наивное, детское, что-то напоминавшее руку школьницы; кое-как подстриженные ногти, видимо, не знали маникюра, они были тоже как у школьницы, а вокруг них кожа чуть шершавилась, и можно было заподозрить, что их владелица страдает невинным пороком — грызёт заусенцы. Впрочем, Ганс Касторп мог об этом только догадываться — дама была от него всё же слишком далеко. Опоздавшая кивнула своим соседям, села за стол, спиной к залу, рядом с доктором Кроковским, который занимал председательское место за этим столом, и, всё ещё придерживая волосы на затылке, повернула голову, через плечо окидывая взглядом публику; Ганс Касторп мельком заметил, что скулы у неё широкие, а глаза узкие… И когда он это увидел — смутное воспоминание о чем-то или о ком-то легко коснулось его словно мимоходом…

Обед тоже был приготовлен отлично, и всё подавалось необычайно щедрыми порциями. Этот обед, включая питательный суп, состоял по меньшей мере из шести блюд. За рыбой последовало вкусное мясное блюдо с разнообразным гарниром, затем овощи, жареная птица, мучное, не уступавшее поданному вчера вечером, и наконец сыр и фрукты. Каждым блюдом обносили дважды — и не напрасно. Больные, сидевшие за всеми семью столами, накладывали себе полные тарелки и усердно всё съедали, — здесь царил прямо-таки львиный аппетит, какой-то неистовый голод, и наблюдать за обедающими можно было бы даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее. Такое чувство вызывали не только самые бодрые пациенты — они оживлённо болтали и бросались хлебным шариками, — но и тихие и угрюмые, которые в перерывах подпирали голову руками и сидели, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Какой-то недоросток за столом слева, по виду ещё школьник, с короткими руками и в круглых очках, мелко изрезал всё, что навалил себе на тарелку, так что образовалась каша и мешанина из кусков; затем склонился над ней и начал жадно поедать её, засовывая время от времени салфетку за стекла очков, чтобы протереть глаза, и неизвестно было, что он вытирает — пот или слеёы.

По своей невоспитанности она называла гофрата Беренса «стариканом». Она возмущалась тем, что «старикан» сидит не за их столом, хотя согласно очередному «турне» (она, видно, хотела сказать «туру») сегодня вечером должен был сидеть именно с ними, а он опять пристроился за столом слева (гофрат Беренс действительно сидел там, сложив перед тарелкой свои непомерные ручищи). И понятно — почему: там место «этой коровы», фрау Заломон из Амстердама, а она даже в будни является к столу декольтированная, и «старикану», должно быть, это очень нравится; но она, фрау Штёр, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться её прелестями сколько угодно. Потом она принялась рассказывать взволнованным шёпотом, что вчера вечером в общей галерее для лежания, — знаете, той, на крыше, — погасили свет и, конечно, по причине, которую фрау Штёр определила как весьма «прозрачную». «Старикан» это заметил и так разбушевался, что во всём доме было слышно. Но виновного, разумеется, опять не нашли, хотя вовсе не нужно учиться в университете, чтобы угадать, кто это: конечно, опять капитан Миклосич из Бухареста, ему в дамском обществе никогда не бывает достаточно темно, он человек совершенно невоспитанный, хотя и носит корсет, — это, по правде говоря, просто хищный зверь, — да, хищный зверь, повторила фрау Штёр сдавленным голосом, причём на лбу и на верхней губе у неё выступили капли пота. В каких отношениях с ним состоит жена генерального консула Вурмбрандта из Вены — известно решительно всем и в деревне и в посёлке, так что едва ли тут можно говорить о загадочности этих отношений. Мало того, что капитан иной раз прямо с утра заявляется в комнату консульши, когда она ещё лежит в постели, и присутствует при всех подробностях её туалета, — в прошлый вторник он изволил выйти из комнаты Вурмбрандтши только в четыре часа утра.