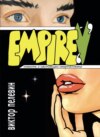«Омон Ра» adlı sesli kitaptan alıntılar, sayfa 5

Жизнь была ласковым зеленым чудом; небо было неподвижным и безоблачным, сияло солнце – и в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. И это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой – настолько обидно и нелепо...

Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнущий свежей краской, с моим большим портретом посередине (я в шлеме и улыбаюсь) и подписью: «Космонавт Омон Кривомазов чувствует себя отлично!» Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей – через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное – мне хотелось самому стать одним из других людей; уставиться на собственное, составленное из типографских точечек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, – а потом вдруг вспомнить, что этот Омон Кривомазов и есть я. С тех пор, постепенно и незаметно, я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал: до меня другим все равно не будет никакого дела, и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому не известным, не была для меня ударом; ударом была новость о том, что придется совершать подвиг.

В этом и суть подвига, что его всегда совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг - это такая вещь, к которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгать на нее грудью, этому всему мы учим, но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя, его можно только совершить.

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый.

Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи.

- У тебя, Омочка , внутри есть душа, - говорила она, и она выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как у тебя хомячок живет в кастрюльке. И душа - часть Бога, который нас всех создал. Так вот ты и есть душа.
- А зачем Бог посадил меня в эту кастрюлю? - спрашивал я.
- Не знаю, - говорила старуха.
- А где он сам?
- Всюду, - отвечала старуха и показывала руками.
- Значит я тоже Бог? - спрашивал я.
- Нет, - говорила она. - Человек не Бог. Но он богоподобен.
- А советский человек тоже богоподобен? - спрашивал я, с трудом произнося непонятное слово.
- Конечно, - говорила старуха.
- А богов много? - спрашивал я.
- Нет. Он один.
- А почему в справочнике написано, что их много? - спрашивал я, кивая на справочник атеиста, стоящий у тетки на полке.
- Не знаю.
- А какой бог лучше?
Но старуха опять отвечала:
- Не знаю.
И тогда я спрашивал:
- А можно я выберу?
- Выбирай, Омочка, - смеялась старуха, и я начинал рыться в словаре, где разных богов была целая куча.

"...но ведь и мы, люди, думал я, вроде бы встречаемся, хохочем, хлопаем друг друга по плечам и расходимся, но в некоем особом измерении, куда иногда испуганно заглядывает наше сознание, мы так же неподвижно висим в пустоте, где нет верха и низа, вчера и завтра, нет надежды приблизиться друг к другу или хоть как-то проявить свою волю и изменить судьбу; мы судим о происходящем с другими по долетающему до нас обманчивому мерцанию и идем всю жизнь навстречу тому, что считаем светом, хотя его источника может уже давно не существовать.."

Да, это было так – норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам – но в синем небе над нашими головами среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, – построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас – даже синелицый алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька, и уж конечно, Митёк и я – имел там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство.

Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой.

Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплеванной каморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу, – это много-много таких маленьких заплеванных каморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн, а самое главное – обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба проносит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна.