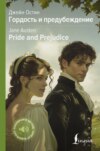Kitabı oku: «Монашка к завтраку», sayfa 2
Заседание подошло к концу, и лишь три пустые бутылки из-под глинтвейна да общее ощущение неопрятности напоминали о проходивших в гостиной дебатах. Дик стоял, опершись локтем о каминную полку, и, не задумываясь, что портит лакированные туфли, рассеянно пинал в очаг догорающие красные угольки. Флеттон, как спящий вулкан, задумчиво попыхивал трубкой, сидя в огромном глубоком кресле.
– Как яростно ты напал на ремесленное творчество! Раскритиковал в пух и прах, – со смехом произнес он.
– Я всего лишь напомнил очевидную истину: предметы народного промысла не имеют к искусству ни малейшего отношения, – отчеканил Дик.
Разгоряченный недавней дискуссией, он ощущал себя так, словно внутри полно сжатых пружин, готовых распрямиться от малейшего прикосновения. Подобное состояние накатывало на Дика каждый раз после произнесенной речи.
– Это было сильно! – заключил Флеттон.
В гостиной повисла тишина. Через некоторое время внутренний двор, на который выходили окна церебральной комнаты, огласился громкими воплями, похожими на гортанные крики дикарей. Все пружины внутри Дика одновременно «выстрелили», будто тысяча чертиков из табакерки.
– Ничего особенного: гости Фрэнсиса Кварлса развлекаются, – пояснил Флеттон. – «Слепые рты», говоря языком Мильтона22.
Не удосужившись дать ответ хотя бы кивком или односложным междометием, Дик нервно заметался по комнате, словно тигр в клетке.
– Мой дорогой, кажется, ты сегодня не в духе, – после долгого молчания произнес Флеттон, поднимаясь с кресла. – Спокойной ночи. – Шаркая расхлябанными тапочками, он направился к двери.
Дик на мгновение замер, прислушиваясь к звуку удаляющихся по лестнице шагов. Вскоре все стало тихо. Gott sei dank23. Он прошел в спальню к пианино. Инструмент пришлось поставить именно там – его щегольски-черный покрытый лаком корпус совершенно не соответствовал строгому интерьеру церебральной комнаты. Все время, пока чертов Флеттон торчал рядом, Дик изнывал от жажды усесться за пианино!
Сев на табурет, он придвинулся к клавишам и начал играть одну и ту же последовательность нот. Снова и снова. Левой рукой он взял ноту соль октавой, а правая нежно опустилась на фа, си и ми. Упоительное, излюбленное Мендельсоном сочетание нот, в котором естественная красота доминантсептаккорда раскрывается во всем своем богатстве за счет добавления божественного диссонанса. Соль, фа, си, ми… Звуки повисли в тишине, и Дик через проходящую ре привел аккорд к разрешению в первозданную красоту натурального до мажора. Чарующие звуки порождали в его душе сильнейший эмоциональный отклик. Дик еще раз двадцать повторил этот аккорд, а затем, насытившись его сладостью, поднялся из-за пианино и выдвинул нижний ящик платяного шкафа. Со дна ящика он достал спрятанную под сложенными вещами объемистую папку и развязал ленточки. Внутри лежало несметное количество фотогравюр шедевров старых мастеров: почти полная коллекция работ Греза24, самые известные полотна Ари Шеффера25, кое-что из Альмы-Тадемы26 и Лейтона27; фотографии скульптур Торвальдсена28 и Кановы29; репродукции «Острова мертвых» Беклина30, религиозных произведений Хольмана Ханта31 и многих картин с выставок Парижского салона32 за последние сорок лет.
Дик забрал папку в церебральную комнату – там было больше света – и начал неторопливо, любовно изучать каждое изображение. Литография Сезанна, три восхитительных офорта Ван Гога и небольшой холст Пикассо холодно взирали на Дика со стен.
В три часа утра он отправился спать: озябший, с затекшими руками и ногами, но с сознанием законченного дела. И действительно, Дик имел все основания гордиться собой – ведь он только что написал первые четыре тысячи слов (полторы главы) романа «Хартсиз Фитцрой: история одной девушки».
Наутро, проглядев плоды своих ночных трудов, Дик пришел в сильное смятение. После трех странных недель в «Эзопе» ничего даже отдаленно похожего не выходило из-под его пера! Рецидив? Дик не знал, что и думать. В любом случае ничего страшного не произошло: сейчас он чувствовал себя абсолютно нормально, что называется, в здравом уме и твердой памяти. Скорее всего, просто переутомился на вчерашнем собрании фабианцев. Дик снова взглянул на свою рукопись.
– Папочка, скажи, когда маленькие девочки попадают на небо и становятся ангелами, у них есть игрушки, котята и плюшевые мишки?
– Право, не знаю, – ласково проговорил сэр Кристофер. – А почему моя малышка спрашивает?
– Папочка, я, наверное, скоро превращусь в маленького ангела. Мне бы очень хотелось взять своего любимого мишку на небо!
Сэр Кристофер прижал девочку к груди. Хрупкая, невесомая малышка так напоминала ангела! Будет ли у нее на небе плюшевый мишка? Детский вопрос все еще звенел в ушах сэра Кристофера. Величественный, сильный мужчина заплакал. Слезы капали на каштановые кудри девочки.
– Скажи, папочка, позволит ли мне Всеблагой Господь взять на небо мишку?
– Дитя мое, – всхлипывал сэр Кристофер. – Дитя мое…
Лицо Дика горело, щеки залил румянец. Он в ужасе отвернулся. Первым делом стоит немного сбавить темп: ложиться пораньше, возобновить занятия гимнастикой и не усердствовать с работой.
В тот вечер Дик лег спать в половину десятого, однако следующим утром обнаружил, что за ночь будущий роман вырос еще на дюжину исписанных убористым почерком страниц. Дик пришел к выводу, что написал их во сне. Все это было очень неприятно. Дни шли за днями. Каждое утро появлялся новый фрагмент рукописи «Хартсиз Фитцрой» – стопка листов росла с удивительной скоростью. Как будто по ночам к Дику являлся маленький домовой, чтобы выполнить назначенную работу, а к утру исчезнуть.
Вскоре Дик слегка успокоился: днем он чувствовал себя совершенно нормально, голова работала с безукоризненной ясностью. Если в часы бодрствования проблем не возникало, то какая разница, что происходило ночью? Дик почти забыл о Хартсиз и вспомнил о ней, только когда открыл платяной шкаф: внизу лежала солидная пачка исписанных листов.
Пять недель спустя он завершил «Хартсиз Фитцрой» и отослал рукопись литературному агенту. Дик не рассчитывал, что издатели купят писанину – на этот шаг его сподвигла исключительно нужда финансового характера. И он решил попытаться, даже если шанс был ничтожно мал. Через две недели пришло письмо, начинавшееся со слов: «Мадам! Позвольте поздравить Вас с удачным литературным дебютом! “Хартсиз Фитцрой” – отличная книга». И подпись: «Эбор В. Симс, редактор “Хильдебрандс хоум Уикли”».
В шапке письма имелись данные о тираже издания, который превышал три с четвертью миллиона экземпляров. Условия, предлагаемые мистером Симсом за еженедельную публикацию романа по главам, казались просто волшебными. Кроме того, Дику полагался особый гонорар, когда роман выйдет отдельной книгой.
Письмо от Симса пришло во время завтрака. Он отменил все запланированные на день мероприятия и немедленно отправился на долгую прогулку. Ему хотелось как следует подумать. Дик прошелся по дороге Семи мостов, влез на Камнорский холм, миновал деревушку и двинулся по тропинке к переправе Бэблок Хайс, а оттуда – вдоль русла «юной Темзы», на каждом шагу вспоминая «Школяра-цыгана»33, черт бы его побрал!
В маленькой гостинице у моста чуть дальше по течению реки Дик выпил пива и закусил хлебом с сыром. Именно там, в гостиничном холле, в окружении гравюр с портретом королевы Виктории, вдыхая затхлый, влажноватый воздух, герметично закупоренный в этих стенах почти три столетия назад, Дик наконец осознал всю правду о себе. Он гермафродит.
Конечно, не в грубом, буквальном, смысле, а в психологическом. В одном теле сосуществуют две личности: мужчина и женщина. Доктор Джекил и мистер Хайд. Или скорее Уильям Шарп и Фиона Маклауд34 – более изысканный Уильям и простоватая Фиона. Теперь все встало на свои места. Постыдный инцидент с Кварлсом получил простое и логичное объяснение – нежная молодая особа, увлекающаяся литературой, решила написать сонет герою своих грез, которого вообразила эдаким офицером-красавцем из романов Уиды35. И с какой проницательностью мистер Симс без колебаний использовал в письме обращение «мадам»!
Дику сразу стало легче. Его четко устроенный разум не выносил мистики. Долгое время он сам для себя был загадкой, и теперь она разрешилась. Обнаруженная аномалия его совершенно не взволновала. До тех пор, пока обе личности не пересекались – мужчина с легкостью решал математические задачи в часы бодрствования, а женщина кропала свои романы исключительно по ночам и не вмешивалась в дневные занятия, – подобный симбиоз вполне устраивал Дика. Чем больше он думал об этом, тем больше радовался такому удачному положению дел. Все устроилось самым лучшим образом. Дневные часы Дик станет посвящать сухим наукам, философии и математике, и время от времени небольшим экскурсам в политику. А после полуночи – женской рукой строчить романы, которые принесут ощутимый доход и окупят его неприбыльные мужские занятия. Получалось, что Дик в некотором роде альфонс, зато это был реальный шанс развеять постоянно преследовавший его страх бедности. Он боялся превратиться в человека, существующего от зарплаты до зарплаты, продающего свой интеллект, чтобы не умереть с голоду. Словно восточный богач, он хотел сидеть и спокойно курить трубку, пока женщины делают грязную работу. Как удобно!.. Дик расплатился за хлеб с сыром и зашагал назад, весело насвистывая.
III
Два месяца спустя на страницах журнала «Хильдебрандс хоум Уикли» появился первый отрывок романа некой Перл Беллер «Хартсиз Фитцрой: история одной девушки». Три с четвертью миллиона прочли и одобрили. Когда произведение вышло отдельной книгой, за шесть недель было продано двести тысяч копий. В течение двух последующих лет не менее шестнадцати тысяч младенцев женского пола только в Лондоне получили при крещении имя Хартсиз. Когда читатели журнала в двести пятидесятый раз увидели знакомую колонку с первой главой из четвертого романа, имя Перл Беллер знали практически в каждом доме. А Дик тем временем получал доходы, о которых не смел помыслить даже в самых дерзких мечтах. Он наконец-то смог позволить себе кое-что по-настоящему желанное – шелковое нижнее белье и хорошие (действительно хорошие) сигары.
IV
Дик завершал учебу в Кантелупском колледже в лучах славы: ярчайший представитель поколения, человек выдающегося ума, головокружительные перспективы, карьера… Однако щедрые похвалы не вскружили ему голову. В ответ на слова о блестящих успехах в учебе Дик лишь вежливо благодарил и приглашал познакомиться со своим Memento Mori36.
Прозвище Memento Mori принадлежало мистеру Глоттенхэму, который целыми днями торчал в помещении дискуссионного общества, а по вечерам перебирался в профессорскую. Когда-то он здесь учился, и несколько лет назад из жалости к преклонному возрасту и одиночеству преподаватели позволили мистеру Глоттенхэму посещать профессорскую. Впрочем, об этом акте милосердия, как и о всех благородных порывах в мировой истории, вскоре горько пожалели. Старик с адским постоянством появлялся в обеденном зале, не пропуская ни одного дня, и последним уходил из профессорской. С первого же взгляда мистер Глоттенхэм производил неприятное впечатление: морщинистое лицо, покрытое отвратительной седой щетиной, одежда с застарелыми пятнами от многолетней привычки неаккуратно питаться. Плечи и длинные руки придавали мистеру Глоттенхэму сходство с приматом. Чудовищным приматом, похожим на человека. Голос его напоминал скрежет. Мистер Глоттенхэм говорил безостановочно и на любые темы. Старик отличался поистине энциклопедическими знаниями, но обладал искусством странной, извращенной алхимии превращать золото в свинец – любые, даже самые интересные, темы в его устах становились невыносимым занудством. Никто не мог выдержать его длинные монологи.
Мистер Глоттенхэм был тем самым символом смерти, к которому Дик привлекал на торжественном банкете внимание своих поздравителей. В свое время мистер Глоттенхэм мог стать поистине выдающимся ученым. Преподаватели прочили ему самую головокружительную карьеру из всех сверстников. Его однокашники стали государственными министрами, поэтами, философами, судьями, миллионерами, а мистер Глоттенхэм до сих пор продолжал наведываться в «Оксфордский союз» и профессорскую Кантелупского колледжа. Он так и остался просто мистером Глоттенхэмом. Вот почему Дик не разделял всеобщих восторгов относительно своего светлого будущего.
V
– Кем стать? Какое следует выбрать занятие? – Дик мерил шагами комнату, яростно дымя сигарой и совершенно не воздавая должное великолепному аромату дорогого табака.
– Дружище, – примирительным тоном сказал Генри Кравистер (разговор проходил в одной из комнат с высокими потолками у него дома в Блумсбери37, куда Дик заехал в гости и теперь выказывал полную утрату самообладания), – дружище, мы не на религиозном собрании секты возрожденцев38. Такое ощущение, что вашу душу надо срочно спасать из адского пекла. Все не так уж плохо, и вы прекрасно это знаете.
– Мы именно на собрании секты возрожденцев! – запальчиво выкрикнул Дик. – Да! Я разделяю их взгляды! Вы не представляете, что значит задумываться о своей душе. Я ужасающе откровенен. Вам не понять! У меня те же мысли, что у Баньяна39, но нет его веры! Спасение моей души важно! Как было бы просто присоединиться к милым созданиям в чепчиках и распевать гимны вроде: «Гип-гип ура во имя крови жертвенного агнца!» – и дело в шляпе. Или вот еще прелестная вещица:
В Геенне огненной колокола
Звонят-звонят-звонят!
Нет, нет, не для меня!
В небесной вышине архангелы
Парят-парят-парят,
Улыбкою маня!40
– Увы, это невозможно, – грустно заключил Дик.
– Ваши идеи, – Кравистер старался говорить как можно более мягко, – отдают готикой. Я их понимаю, но не разделяю и не одобряю. Мой совет каждому, кто не знает, какой путь ему следует выбрать, всегда один: займитесь тем, что нравится.
– Кравистер, вы безнадежны! – расхохотался Дик. – Признаю, идеи действительно готические, но дальше возникает вопрос о понятиях «следует» и «нравится»!
Дик заехал к старому другу поговорить о жизни. Гринау находился на перепутье, не зная, какую дорогу выбрать. Неутомимое перо Перл Беллер избавляло его от финансовых затруднений. Но кто избавит от моральных? Как лучше распорядиться своими талантами и временем? Посвятить себя знанию или действию? Философии или политике? Дик горел желанием отыскать истину и, возможно, – кто знает? – ему это удастся. С другой стороны, видя вопиющее несовершенство окружающего мира, Дик мог бы бросить все силы на борьбу с откровенным злом.
Основная дилемма состояла в следующем: стоит ли ему посвятить себя исследованиям, необходимым для реализации давно зревшего плана по описанию собственной системы научной философии, или воспользоваться деньгами Перл Беллер, чтобы вдохнуть новую жизнь в английское революционное движение? На карту были поставлены великие нравственные принципы, а Кравистер не нашел ничего лучше, чем дать совет: «Займитесь тем, что вам нравится»!
После месяца мучительных колебаний Дик (в нем взяла верх английская практичность) нашел замечательное компромиссное решение. Он начал работать над системой Синтетической философии и одновременно устроился в издание «Уикли интернэшнл», вклад в процветание которого вносил и статьями, и деньгами. И побежали недели – радостные, прибыльные. Секрет счастья в том, что нужно найти работу по душе, и Дик трудился с невероятным усердием. А по ночам не знающая устали Перл Беллер выдавала очередную порцию в пять тысяч слов, чем обеспечивала безбедное существование не только Дику, но и всему «Уикли интернэшнл». Эти месяцы стали, пожалуй, самыми безоблачными в его жизни. У Дика были друзья, деньги, свобода, работа спорилась. Особым, неожиданным счастьем оказалось сближение с Миллисентой. Раньше ему не удавалось ладить с сестрой настолько хорошо.
На третий год учебы Дика в Оксфорде туда в качестве студентки колледжа святого Мунго приехала Миллисента. Она превратилась в очень деятельную и очень умную молодую женщину, которую к тому же отличала весьма привлекательная внешность. Миллисента, по-мальчишески худая, обладала необыкновенным природным изяществом, которое пыталась скрыть под маской суховатых манер, но оно все равно прорывалось в грациозных жестах и движениях, заставляя сердца окружающих замирать от неподдельного восхищения.
Как необъезженная кобылица,
Шалить она любила и резвиться.
Пряма, что мачта, и гибка, что трость,
Была она41.
Кстати, Чосер умел мастерски подметить не только красоту юности, но и гноящиеся язвы, и ноздри, поросшие щетиной, и красные рожи толстяков, погрязших в грехе42.
Не успела Миллисента начать учебу в колледже св. Мунго, как о ней заговорили. Молодые особы со второго и третьего курса могли сколько угодно морщиться, глядя на самоуверенную новенькую, и негодовать, что желторотая нахалка совершенно не проявляет к ним должного пиетета, – Миллисента не обращала на них ни малейшего внимания. Она основала несколько новых обществ и оживила деятельность старых, где за чашкой какао обсуждалось все на свете, с азартом играла в хоккей и ужасающе много трудилась. И, конечно, очень скоро с мнением Миллисенты стали считаться, ее зауважали.
В начале пятого семестра девушка организовала знаменитую общую забастовку студентов, которая вынудила руководство колледжа ослабить кое-какие наиболее деспотичные и устаревшие правила, ограничивавшие свободу учащихся. Именно Миллисента от лица бастующих отправилась на переговоры с директрисой колледжа, грозной мисс Проссер. Грозная мисс Проссер хмуро взглянула на нее и пригласила садиться. Миллисента села и смело обратилась к директрисе с краткой, но емкой речью, в которой раскритиковала основные принципы дисциплинарной системы колледжа св. Мунго.
– Ваши представления, – убеждала она директрису, – в корне неправильны. Они наносят оскорбление всему женскому полу. И совершенно неадекватны! Вы исходите из убеждения, что все студентки постоянно находятся в состоянии сексуального возбуждения, а потому, стоит нас хоть на мгновение оставить без присмотра, как мы тут же кинемся воплощать наши мечты в реальность. Мне стыдно даже произносить такие отвратительные вещи! В конце концов, мисс Проссер, мы разумные студентки колледжа, а не сумасшедшие нимфоманки из психиатрической лечебницы!
Первый раз за все годы службы директрисе пришлось признать свое поражение. Руководство колледжа пошло на уступки, очень осторожно и всего в паре пунктов, но непоколебимые принципы удалось пошатнуть. И это было, как подчеркивала Миллисента, самое главное.
Во время учебы в Кантелупском колледже Дик часто виделся с сестрой. А после получения диплома наведывался к ней раз в две недели. Взаимная отчужденность нередко отравляет общение внутри семьи. Долгие годы между Диком и Миллисентой упорно воздвигалась невидимая стена, и теперь она начала исчезать: брат и сестра стали лучшими друзьями.
– Знаешь, Дик, сейчас ты мне нравишься гораздо больше, – однажды призналась Миллисента, когда они после долгой прогулки прощались у ворот колледжа.
Он снял шляпу и шутливо поклонился.
– Дорогая сестра, спешу ответить взаимностью. Более того, ты заслужила мое уважение и восхищение, представляешь?
Девушка присела в реверансе, и они оба расхохотались. Дика и Миллисенту переполняло счастье.
VI
– Что за жизнь, – устало вздохнул Дик, когда поезд отъехал от платформы Юстонского вокзала43.
«Неплохая жизнь», – подумала Миллисента.
– Сил никаких нет. Я совершенно дезерантирован, – проговорил он.
Слово «дезерантирован» Дик придумал, переиначив французское «éreinté»44. Ему нравилось сочинять неологизмы. Друзьям приходилось осваивать эти словечки, чтобы лучше понимать Дика в ходе частной беседы.
Он имел все основания для того, чтобы чувствовать себя дезерантированным. Весна и лето пролетели в вихре бесконечных дел. Дик написал три большие главы «Новой синтетической философии» и составил заметки для двух последующих. Помогал организовывать и довести до успешного завершения большую забастовку плотников в мае и июне. Сочинил два памфлета и бессчетное количество политических статей. И это лишь малая часть его деятельности. Каждую ночь, с полуночи до двух, мисс Перл Беллер творила свои литературные шедевры, зарабатывая для Дика на хлеб с маслом. В мае вышел роман «Обезьяны в фиолетовом». После чего мисс Беллер умудрилась написать «Безнравственную красотку» и приступила к первым главам «Дейзи едет на Китиру»45. Кроме того, ее еженедельная рубрика «Девушкам Британии» стала изюминкой приложения «Хильдебрандс Саббат» – самого читаемого воскресного издания.
К началу июля Дик решил, что заслуживает небольшого отпуска. И теперь они с Миллисентой отправлялись на север. Дик арендовал коттедж на берегу одного из длинных соленых озер, которые придают западной оконечности Шотландии изрезанный вид на географических картах. Вокруг на многие километры не было ни одного человека, кто не носил бы фамилию Кэмпбелл. Исключение составляли две семьи: одни Мюррей-Драммонды, а вторые Драммонд-Мюрреи.
В любом случае Дик и Миллисента приехали не ради знакомств. Брата и сестру привлекала шотландская природа – красота пейзажей с лихвой восполняла все то, чего подчас не хватало местным жителям. Позади коттеджа, посредине узкой болотистой полосы, лежащей между озером и подножьем гор, находилась одна из многочисленных могил Оссиана46 – огромные древние камни. А в трех километрах оттуда – развалины легендарного убежища Дейрдре. Безмолвные свидетели кельтского прошлого.
Вдали, словно черные точки, виднелись руины средневековых замков. Поразительная земля – вздыбленная горами, изрезанная узкими фьордами. В летние дни этот невероятно живописный ландшафт наполнялся голубоватым кристально-прозрачным воздухом, производя впечатление абсолютной ирреальности. Вот почему Дик решил провести отпуск именно здесь: после назойливой суеты Лондона сказочные окрестности горного озера казались живительным бальзамом для изнуренного горожанина.
– Nous sommes ici en plein romantisme!47 – восхищенно заметил он в день приезда, обводя широким жестом потрясающей красоты вид.
Весь отпуск Дик изображал юного романтического героя. Присев возле могилы Оссиана, читал вслух Ламартина48, декламировал Байрона, когда взбирался на вершины гор, и Шелли49, когда плыл на лодке по озеру. По вечерам, читая «Индиану» Жорж Санд, Дик страдал вместе с чистой, но пылкой героиней, а его уважение к любившему ее сэру Брауну, молчаливому гиганту, всегда одетому в безупречный охотничий костюм, не знало границ. Дик самозабвенно читал стихи Виктора Гюго и почти убедил себя, что слова «Dieu, infinité, eternité»50, которыми так щедро сбрызнуты произведения этого грешного гения51, все-таки не лишены некоторого смысла. Впрочем, какого именно, Дик даже в самых романтических порывах понять не мог.
Зато Перл Беллер прекрасно понимала. Несмотря на скромные познания во французском, она частенько могла растрогаться до слез, когда, возникнув после полуночи, читала оказавшиеся под рукой книги. Перл даже списала несколько отрывков с намерением использовать их в новом романе. Особенно сильно ее поразили вот эти возвышенные строки:
Миллисента тем временем замечательно справлялась с домашним хозяйством, много гуляла и читала толстые серьезные книги. Она подшучивала над братом, решившим на время отпуска превратиться в романтического героя, но участвовать в игре отказывалась.
Новость об объявлении войны разразилась как гром среди ясного неба. Газет Дик с Миллисентой не читали, а страницы «Скотсмана» – единственного издания, которое все-таки попадало в дом к обеду, – служили исключительно для розжига огня или для заворачивания рыбы и тому подобного. Писем ни Дик, ни Миллисента не получали, так как не оставили адреса для пересылки корреспонденции. Они жили в полной изоляции от внешнего мира.
В роковое утро Дик мельком взглянул на газету, однако ничего необычного не заметил. И только гораздо позже, случайно услышав странные пересуды возле местной лавочки, решил изучить «Скотсман» повнимательнее. Далеко не на первой станице в середине третьей колонки он обнаружил довольно подробное описание трагических событий, которые произошли за последние сутки. Каменея от ужаса, Дик прочел, что в Европе полыхает война, в которую вступила и его родина. Переживая сильнейшее потрясение от новостей, он невольно восхитился, с каким непоколебимым спокойствием был подан материал о войне – ни громких заголовков, ни раздувания щек по поводу традиционного аристократического достоинства. «Совсем, как сэр Рудольф Браун из “Индианы”», – грустно улыбнувшись, подумал он.
Дик решил немедленно вернуться в Лондон. Он чувствовал, что должен действовать (или, по крайней мере, создать иллюзию деятельности). Дик не мог сидеть сложа руки. Было решено, что он отправится поездом в тот же день, а Миллисента выедет через день или два вместе с багажом.
Поезд до Глазго тащился, как улитка. Дик пытался читать, пробовал вздремнуть – бесполезно. Взвинченный до крайности, он представлял собой жалкое зрелище – руки и ноги непроизвольно подергивались, неконтролируемые спазмы мышц превращали лицо в жуткую гримасу. В ожидании пересадки на поезд до Лондона Дик три часа бродил по улицам Глазго. Светлым летним вечером многочисленные жители города высыпали из домов, чтобы прогуляться. Он с отвращением протискивался сквозь толпу людей, поражаясь их одинаково уродливой внешности – все, как нарочно, невысокие, кривые, безобразные. Их речь звучала совершенно нечленораздельно. Дик содрогнулся: чуждое, гадкое место.
Лондонский поезд был переполнен. В купе к Дику подсели три неотесанных итальянца. После того как соседи с громким омерзительным чавканьем поели и попили, они, приготовившись спать, сняли ботинки. В купе разлился тошнотворный запах аммиака, словно в клетке с мышами, которую давно не чистили. Пока трое итальянцев наслаждались счастливым забвением, Дик, сидя без сна, смотрел на их огромные туши, развалившиеся рядом. Он задыхался от жары и запаха потных тел. В голове с пугающей навязчивостью закопошилась мысль: итальянцы больны и выдыхают зараженный воздух, а Дик, обреченный сидеть в этой жуткой парилке, медленно пропитывается чахоткой и сифилисом! Вот он, настоящий ад!
Наконец Дик понял, что больше мучиться не в состоянии, и вышел из купе. Стоя в коридоре или на несколько минут вынужденно отлучаясь в туалет, он кое-как провел остаток ночи. Поезд мчался без остановок. Постепенно в грохоте колес стал улавливаться ритм. В далеком детстве поезда выстукивали забавную песенку: «В Ланкашир, в Ланкашир! Платочком машем, машем! В Ланкашир, в Ланкашир…» Увы, той ночью колеса тревожно повторяли лишь одно слово: «Война-война! Война-война! Война-война!» Дик отчаянно пытался услышать что-нибудь другое, например стихи Мильтона или хотя бы песенку про Ланкашир, – тщетно. Колеса упорно твердили бесконечную мантру: «Война-война! Война-война!»
К моменту прибытия в Лондон Дик находился в самом плачевном состоянии. Нервы окончательно расшатались: они вибрировали, лихорадочно сжимались и разжимались, словно мечущиеся в клетке птицы. Лицо дергалось чаще и сильнее. Пока Дик стоял в ожидании такси, он услышал позади детский голосок:
– Мамочка, а что у дяди с лицом?
– Тише, дорогой, это невежливо, – последовал негромкий ответ.
Дик обернулся: на него, будто на диковинного зверя, с любопытством и восхищением смотрели большие круглые глаза мальчика. Дик прислонил ладонь ко лбу в попытке утихомирить мышечные спазмы. Ну вот, теперь его боятся дети!
Вернувшись в квартиру, он выпил стакан бренди и лег спать. Дик чувствовал себя выпотрошенным, больным. Он проснулся в половине первого дня и, глотнув еще бренди, выполз на улицу. Стояла одуряющая жара. Отражающийся от тротуаров солнечный свет резал глаза. Казалось, асфальт раскалился добела. По дороге медленно ехала поливальная машина, оставляя после себя тошнотворный запах мокрой пыли.
Дик почувствовал, что его здорово развезло: не надо было пить алкоголь на пустой желудок. Молодой человек находился в той стадии опьянения, когда мозг способен воспринимать окружающую действительность, но не способен ее анализировать. С болезненной ясностью осознавая свое состояние, Дик лишь огромным напряжением воли добивался восстановления нарушенной связи. Долгим, изматывающим усилием он как бы прижимал мозг к задней поверхности глазных яблок. Но стоило хоть на миг ослабить давление – способность анализировать происходящее моментально исчезала, связь опять прерывалась, и Дик скатывался к состоянию, граничащему со слабоумием.
Действия, которые в обычных обстоятельствах человек производит механически, не задумываясь, Дику приходилось выполнять осознанно и принудительно. Например, пришлось заново научиться ходить – сначала выставить вперед левую ногу, потом правую. С какой изощренностью он двигал ступнями и коленями! Как грациозно шевелил бедрами!
Дик зашел в ресторан и сидел там, попивая кофе и ковыряя омлет, до тех пор, пока не почувствовал, что протрезвел. Затем отправился в контору «Уикли интернэшнл», чтобы переговорить с Хайманом, занимавшим должность редактора.
Хайман сидел за столом в нарукавниках и что-то писал.
– А, Гринау! – радостно воскликнул он, завидев Дика. – А мы-то гадали, куда ты запропастился. Некоторые утверждали, что ты ушел на фронт.
Дик отрицательно замотал головой, но не произнес ни слова. В нос ударили сильные запахи свежей типографской краски и печатных машин в сочетании с едким ароматом любимых Хайманом сигарет с виргинским табаком. Почувствовав накатившую дурноту, Дик поскорее уселся на подоконник и с наслаждением вдохнул чистый воздух.
– Какие новости? – наконец произнес он.
– Скоро начнется ад кромешный.
– А я, по-твоему, думал, что будет рай? – раздраженно ответил Дик. – Теперь идеи интернационализма выглядят смешно, да?
– Ничего подобного! Я верю в них больше, чем когда-либо! – вскричал Хайман, и его лицо озарилось сиянием благородного энтузиазма. Надо сказать, это было хорошее лицо: худощавое, покрытое морщинами, скуластое, словно высеченное из камня (а ведь Хайману еще не исполнилось и тридцати). – Пусть остальной мир сходит с ума! Мы сохраним здравомыслие! Придет время, и все поймут, что правда на нашей стороне!
Хайман продолжил свою пламенную речь. Его чистосердечие и целеустремленность вдохновили Дика. Он всегда восхищался Хайманом. Конечно, с некоторыми оговорками: Хайман напоминал фанатика, и ему не хватало образования, однако сегодня Дика тронуло поверхностное красноречие Хаймана, которое в прошлом всегда оставляло его равнодушным. Пообещав написать для газеты серию статей по международным отношениям, он отправился домой в отличном расположении духа и решил приступить к работе немедленно. Приготовил бумагу, перо и чернила и уселся за бюро. Дик хорошо помнил, как, задумчиво прикусив кончик пера, ощутил на языке горький привкус…