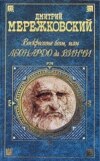«Былое и думы» kitabından alıntılar, sayfa 2

В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

...старайся исправить свою душу – от бога не уйдешь, как от будочника!

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладает ли с ними человек, или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору — это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая шагистика была главным в военном деле, — так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции.
В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частию очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.
Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, то есть те общие места, которые последовательно проявляются одни и те же, a tour de role, — как уточки в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках.

Мундир и однообразие – страсть деспотизма.

О выборе не может быть и речи; обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут.

Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи; все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

– Кто имеет право писать свои воспоминания?
– Всякий.
Потому что никто их не обязан читать.
Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, – для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать.
Всякая жизнь интересна; не личность – так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению... Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания...
– Но могут же записки быть скучны, описанная жизнь бесцветна, пошла?
– Так не будем их читать – хуже наказания для книги нет.

Письма-больше,чем воспоминания,на них запеклась кровь событий,это-само прошедшее,как оно было,задержанное и нетленное.