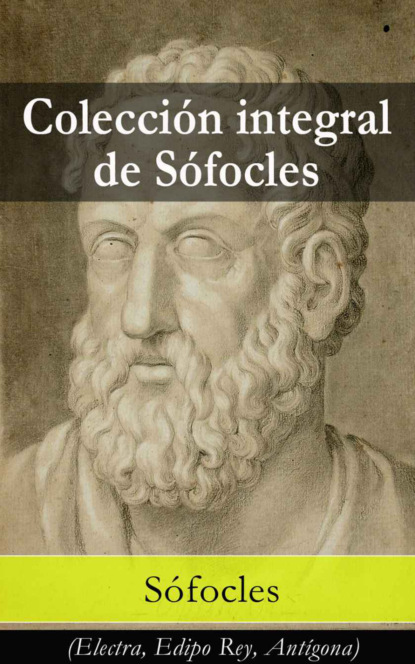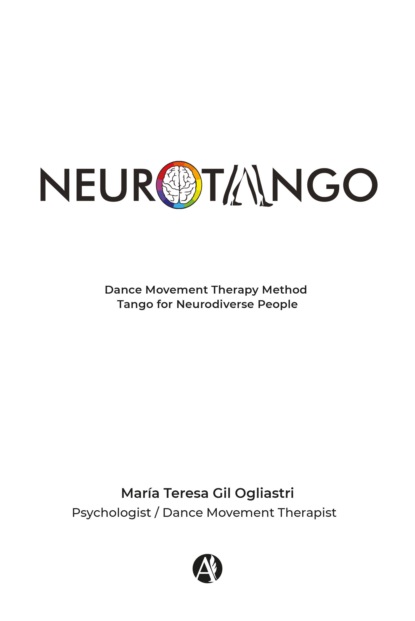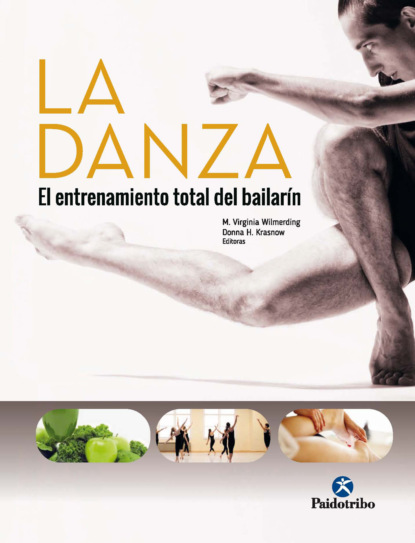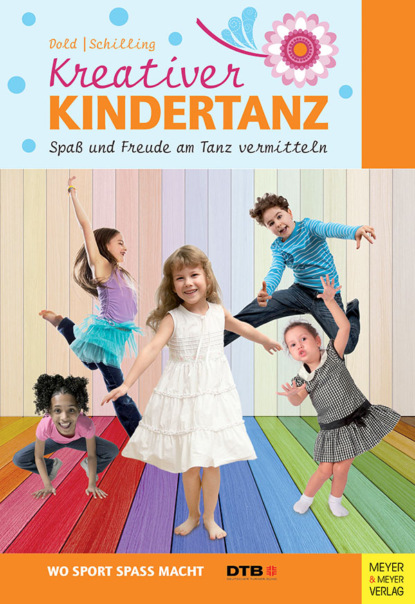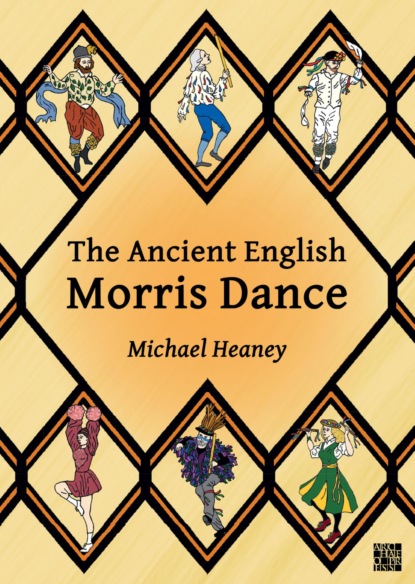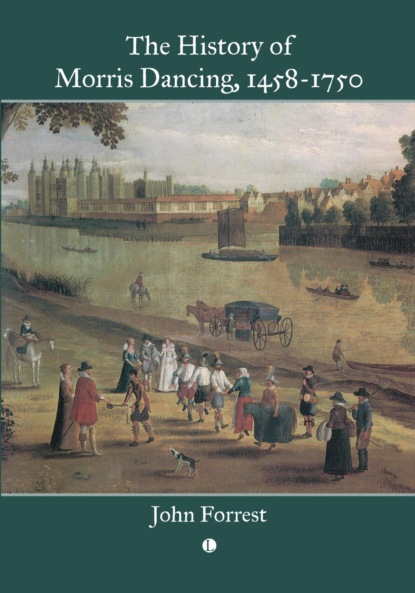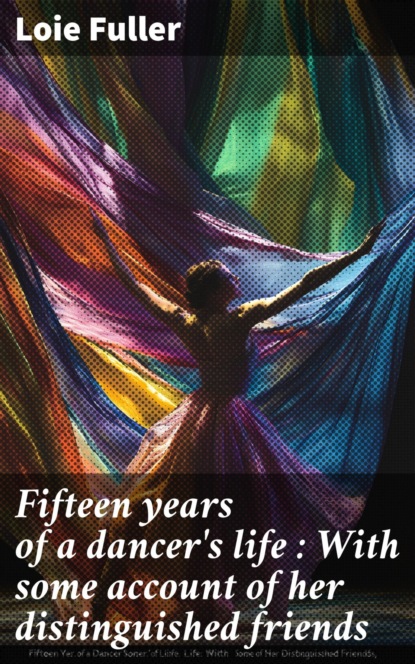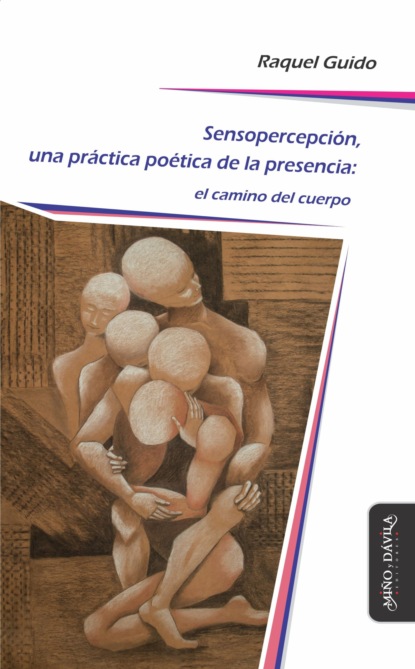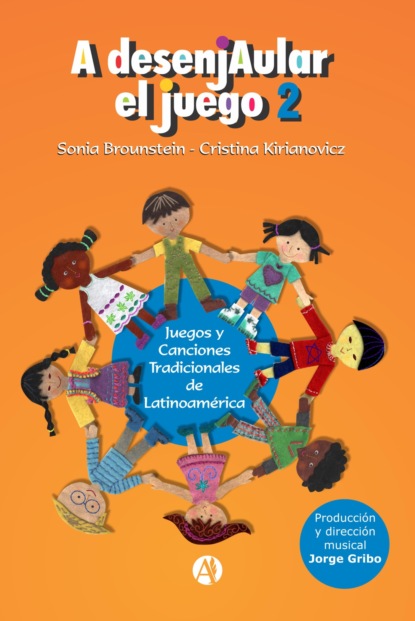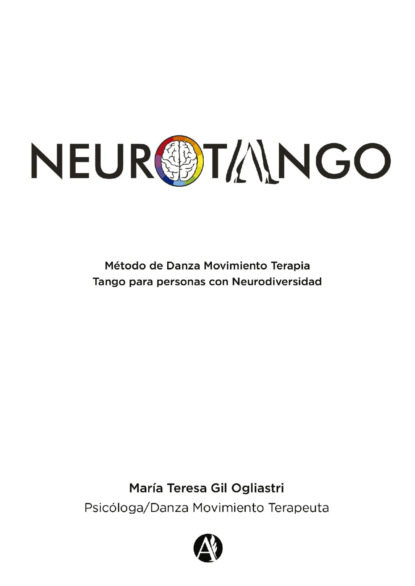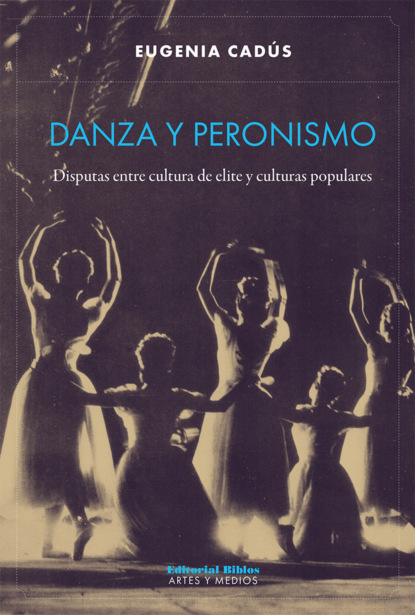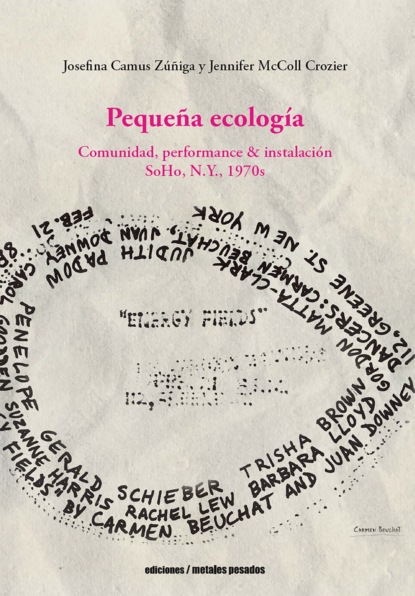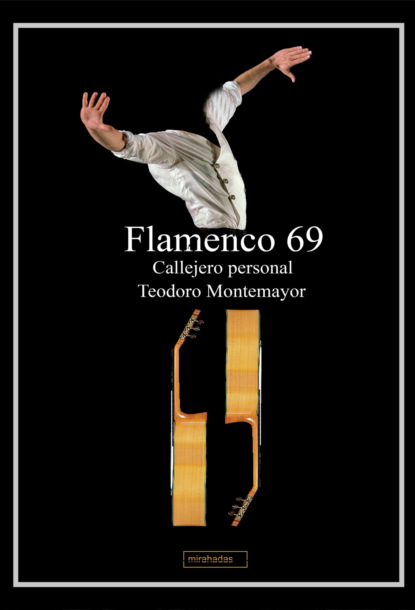Format
Yüksek not
Seçilmedi
4 ve 5 yıldızla derecelendirilen kitaplar
Popüler
100 motius per estimar la sardana
Jordi Saura vd.
katalanca
Metin
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
₺479,53
A Desenjaular el Juego 2
Sonia Brounstein vd.
ispanyolca
Metin
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
₺479,53
A Desenjaular el Juego 1
Sonia Brounstein vd.
ispanyolca
Metin
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
₺378,47
La clase de ballet a ritmo Colombiano
Mónica Andrea Peña Sierra vd.
ispanyolca
Metin
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
₺176,35