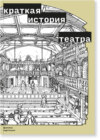Kitabı oku: «Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России», sayfa 2
От Айседоры Дункан до «Айседориного горя»: краткая история современного танца в России7
Появление современного танца на рубеже XIX–XX веков на Западе связано с развитием общей двигательной культуры и одновременно с деятельностью отдельных танцовщиков и хореографов. Во второй половине XIX века Европа и Америка заразились дельсартизмом – системой движения Франсуа Дельсарта, певца и учителя вокала, который занимался изучением выразительности человеческого тела. На создание собственной системы выразительного движения его сподвигла личная история: Дельсарт сорвал голос и считал, что всему виной неправильная телесная тренировка. Он наблюдал за жестами, позами, интонациями голоса и пытался вывести законы, управляющие человеческим телом в момент, когда оно выражает то или иное чувство. Сперва его системой пользовались профессионалы – певцы, ораторы, актеры, но затем она широко распространилась и стала модным увлечением, особенно среди американок, что было в духе тогдашних феминистских реформ8. Дельсартизм повлиял как на развитие общей физической культуры, преодоление разрыва между «телом и духом», так и на будущих основательниц современного танца. Выступления последовательницы Дельсарта Женевьевы Стеббинс вдохновили будущую звезду раннего модерна – Рут Сен-Дени, а сам дельсартизм часто называют предтечей искусства Айседоры Дункан.
В начале XX века швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз разработал систему ритмики, которую планировал использовать для воспитания музыкантов. Далькроз считал тогдашнее обучение технике игры неэффективным: учитель игры на фортепиано, например, мог долго заниматься руками учеников, но совсем не уделять внимания вовлечению тела в процесс исполнения произведения9. Молодой композитор был уверен, что для лучшего усвоения музыкального материала нужно прочувствовать его ритм, то есть включить в восприятие музыки все тело исполнителя. Далькроз разработал целую ритмическую систему: каждое движение соотносилось с определенным музыкальным термином, «музыкальность» находила воплощение в видимой физической реакции тела, поэтому его упражнения сильно смахивали на танец10. Со временем его система оказала огромное влияние на развитие танца в Европе: например, в Дрездене его ученицей была Мэри Вигман, соратница Рудольфа Лабана и одна из основательниц немецкого экспрессивного танца (Ausdruckstanz, немецкого танца модерн).
На фоне общих изменений в двигательной культуре менялось и искусство танца, постепенно формируя убедительную альтернативу классическому балету, который к концу XIX века все еще оставался основным видом танцевального искусства на Западе. В то время в России при балетмейстере Мариусе Петипа балет достиг пика своего развития, в Европе – практически пришел в упадок, а в Америке «импортированная» классика еще до конца не прижилась (отчасти поэтому у истоков раннего модерна стояли именно американские танцовщицы). На этом фоне актриса и танцовщица Лои Фуллер создала знаменитые танцы «цветов» и «бабочек», заставив танцевать свои воздушные костюмы, подсвечивая их прожекторами. Фуллер не использовала балетную технику: вместо этого она брала в руки длинные планки, прятала их под объемными тканями костюма и свободно танцевала, создавая гипнотические образы. Ее искусство – один из первых прецедентов нового сценического танца, не являющегося ни балетом, ни сугубо развлекательным шоу. Покинув США, Фуллер завоевывает признание в Европе, поначалу выступая в Париже в знаменитом варьете «Фоли-Бержер». Позже Европу покоряет американка Айседора Дункан, родоначальница так называемого свободного движения.
Другая ключевая фигура раннего современного танца – Рут Сен-Дени, которая, в отличие от Фуллер и Дункан, работала в США и там снискала славу. В ее выступлениях проявилась популярная в то время в Америке тяга к ориентализму – она вдохновлялась восточными танцами, индийскими и египетскими мотивами. Помимо прочего, Сен-Дени известна тем, что создала вместе с мужем Тедом Шоуном одну из первых школ современного танца – «Денишоун». Образование в ней было эклектичным и включало занятия классикой, разные восточные техники танца, систему Дельсарта и многое другое, однако уже тогда в программе школы проявилось стремление воспитывать не только умелых исполнителей, но и разносторонне развитых личностей11. Танцовщицы раннего модерна – Фуллер, Дункан, Сен-Дени – смогли избежать карьеры шоугёлз и сделали многое для того, чтобы повысить статус неклассического танца, выведя его на уровень серьезного искусства. На этой базе следующее поколение хореографов в Америке и Европе развивало свои техники, а в целом танец модерн стал заметным явлением в западной хореографии, оказав влияние и на балет.
Икона танца модерн – Марта Грэм, – в начале своего пути учившаяся в школе «Денишоун», к середине ХХ века стала символом американского искусства. Грэм была одной из тех, кто подарил американскому танцу его идентичность и связь с актуальным настоящим. Она критиковала искусство предшественников за поверхностность, фривольность и связь с миром водевильных постановок и укрепила танец в мире высокого сценического искусства. Грэм хотела, чтобы американские хореографы занимались своей историей и злободневными проблемами, а не искали вдохновения в экзотических восточных сюжетах. Она разработала собственную технику, во многом основанную на работе дыхания: «контракшн» (сжатие) позволяло телу сокращаться, а «релиз» – расслабляться, передавая таким образом психологические состояния. Наряду с Мартой Грэм ключевыми хореографами модерна стали Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман и приехавшая из Германии Ханья Хольм.
В Германии развивался свой модерн – немецкий экспрессивный танец, Ausdruckstanz, появлением которого мир обязан Рудольфу Лабану, Мэри Вигман, Курту Йоссу, Валеске Герт и другим (впоследствии эта традиция продолжилась в танцтеатре Пины Бауш). Хореографы того периода создавали оригинальные пластические языки, уходя от унифицированного словаря балета, и воспитывали труппы, опираясь на собственные техники. Танец модерн полагался на телесную выразительность, воспринимал тело и движение как универсальный язык коммуникации, пытался выразить эмоцию, передать состояние, часто – рассказать историю. Он требовал специфической виртуозности: танцевать модерн – значит освоить технику одного из великих хореографов того времени: Марты Грэм, Хосе Лимона, Дорис Хамфри, Ханьи Хольм. Он существовал в театральных рамках, и задачей его было создание цельного художественного зрелища. Хореография в модернистской парадигме – это «искусство сочинять танец»12. Именно модерну мы обязаны расхожим представлением о современном танце – театральном искусстве, где люди выражают мысли и чувства с помощью специфического танцевального движения. Впоследствии – в 1960–1970- х в Америке и в 1990-х в Европе – хореографам пришлось приложить много усилий, чтобы вывести современный танец за границы этого определения.

Илл. 5. Советский жест. Кооператив «Айседорино горе». Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), Москва. Фотография Евгения Второва. 2018
В России историю современного танца возводят к Айседоре Дункан, точнее к ее концертам в Петербурге и Москве в 1904–1905 годах. Российские интеллигенты с большим энтузиазмом впитывали идеи возникшего на Западе свободного движения – появление в столице Дункан произвело настоящий фурор. Ее танцы, воспевающие идеалы античности, гармонию плотского и духовного, свободу телесного выражения и определенный гедонизм, не только пользовались огромной популярностью у зрителей, но и вдохновили местные движенческие эксперименты. Дункан танцевала босиком, без корсета, в легкой тунике, не прибегала к балетной технике и искала источник движения в собственном теле. В духе поисков модернистского искусства она интересовалась движением как таковым, вдохновлялась античностью и природой. Ее последователи создавали свои школы и танцевальные коллективы, развивались студии пластики и новая танцевальная самодеятельность. Этот бум студийства подробно описан в книге Ирины Сироткиной «Свободное движение и пластический танец в России». «Уже к 1911 году, – пишет она, – в Москве можно было найти “представителей всех методов и направлений современного танца”». Танцевальные кружки множились даже во время войны и после революции: своя пластическая студия была почти в каждом городе13.
Советская власть быстро осознала дисциплинарно-идеологический потенциал работы с телом. Поначалу энтузиазм «пластичек» поддерживал, например, Анатолий Луначарский: их танцы были доступны и демократичны, не требовали больших вложений, а значит, могли стать инструментом воспитания нового гражданина. Но спустя несколько лет после открытия в 1921 году школы Дункан в Москве партийные лидеры уже видели в пластическом танце буржуазную угрозу. Интерес к художественному и научному исследованию движения в разных его проявлениях недолго находил поддержку государства, которое быстро перенаправило внимание на внедрение физкультуры и дисциплинарного телесного воспитания. Так, возникшая в 1922 году на базе Российской академии художественных наук Хореологическая лаборатория изначально была ориентирована на профессиональное исследование разных аспектов танца, гимнастики, спорта, трудовых операций, движения в кинематографе и фотографии. В задачи программы лаборатории входило изучение «художественных законов движения тела», визуальной репрезентации движения, связи танца с музыкой и цветом. Однако проект так и не был реализован; не удалось спасти и московские студии пластики, которые к 1924 году были уже совершенно неугодны советской власти. В августе их полностью запретили постановлением Моссовета14. На смену пластическим экспериментам пришли «танцы машин» и биомеханика, внимание переключилось на область научной организации труда (НОТ).
Общий механизм развития неклассического танца в России наметился еще сто лет назад. Новое слово формировалось в среде энтузиастов и любителей и выходило на профессиональный уровень ровно в той степени, в которой это было угодно государству, определяющему границы и стандарты профессиональной сферы. Студийцы занимались не совсем «самодеятельностью» или «досугом», а ставили себе серьезные художественные задачи. «Несмотря на мимолетность их жизни и более чем скромный бюджет, амбиции студий были огромны. Студия, как правило, затевалась как новое слово в искусстве и бунт против истеблишмента <…> Каждая претендовала на то, чтобы создать собственную “систему” или “художественный метод”. У каждой имелись свои теоретики, писались манифесты»15. Все это было возможно из-за стремительной демократизации танца: границы между «настоящими художниками» и «какой-то самодеятельностью» таяли. Однако амбиции подобных коллективов всегда были под надзором власти, искусственно подавлялись и инфантилизировались. Изначально воспринятое как демократичное и народное, свободное движение скоро стало идеологически неугодным – в первую очередь потому, что ассоциировалось с индивидуализмом и вольнодумством.
Свободный танец развивался на фоне индустриализации и тотальной рационализации труда. На фордистских заводах в Америке в начале XX века процветал тейлоризм – система научного менеджмента Фредерика Тейлора, который оптимизировал трудовые движения, создав своеобразную хореографию эффективности. Тейлор изучал движения рабочих на фабриках, искал способы сделать их наиболее экономичными и внедрял эти принципы в трудовой процесс. Положение тела, подготовительные движения, специфика их выполнения – он открывал телесные паттерны, которые лучше всего подходили для задач конкретной трудовой операции. Тейлор сетовал на то, что одну и ту же телесную задачу разные люди выполняют по-разному: вариантов десятки, а верный и эффективный способ только один, и задача менеджера – проконтролировать его освоение и исполнение работником16. Тела рабочих таким образом превращались в машины, с помощью которых завод увеличивал эффективность и прибыль. Принципы тейлоризма, якобы в более гуманном варианте, были активно переняты СССР и развиты в 1920-е годы под названием научной организации труда – в первую очередь, в трудах Алексея Капитоновича Гастева17.
C того времени в социалистических государствах укоренился страх телесной девиации, двигательной ошибки, которая в контексте завода означала не только снижение эффективности, но и опасность для жизни. Философ и теоретик искусства Бояна Кунст замечает, что на Западе неуклюжее, выразительное, ленивое, мечтательное движение воспринималось как символ свободной индивидуальности, тогда как в обществах, строящих коммунизм, такое движение саботирует всю социальную машину18. Медлительное, не предзаданное движение, такое ценное в современном танце, изымалось из рабочего процесса как ненужное. Канонический пример «плохого танцовщика» того времени – герой Чарли Чаплина из фильма «Новые времена» (1936), неуклюжий и мечтательный Бродяга, не умеющий совпасть в своем движении с современным индустриальным ритмом. Танцы у станка19 и за пределами фабрики имели разную цель и разное кинестетическое наполнение. В первом случае движение было отчуждено от индивида и инструментализовано, функционально, в последнем – открывало внутренний потенциал тела. Так, свободные формы танца изначально были связаны с самовыражением, развитием субъекта, индивидуализмом (хоть иногда и принимали хоровые формы, как, например, у Лабана), а главное – с удовольствием от свободного времени. Плавность, экспрессия, непредсказуемость движения могли возникнуть только за пределами фабричной ограды (этот образ Кунст заимствует из фильма «Выход рабочих с фабрики “Люмьер”» (1895)).
Кроме того, в логике советской культурной политики новый танец не должен был усложняться, становиться чрезмерно «авангардным», интеллектуальным, элитарным, что через тридцать пять лет произошло, например, в Нью-Йорке. Как и другие искусства, танец в послевоенной Америке стремился себя «отменить», дойти до границы, где он перестает быть собой. Эта стратегия впервые нашла воплощение в радикальных экспериментах Театра танца Джадсона, о которых мы подробнее поговорим дальше. В Союзе же ориентацию на массовую доступность, зрелищность и политическую пропаганду было легче реализовать в спорте, балете и поднадзорном народном танце. В итоге в СССР смогли выжить только эти три направления, а консервативный балет стал главным хореографическим искусством. Отчасти с этим связано некоторое напряжение, которое до сих пор возникает между современным и классическим танцем в России, совершенно не свойственное многим западным странам, где у балета не было такого мощного статуса. До 1960-х балету тоже не давали модернизироваться, дрейфовать в сторону абстракции; официальным хореографическим искусством стал драмбалет, в котором танец должен был быть исключительно сюжетно оправдан. Так танцу в России были закрыты пути дальнейшего развития и отказано в ориентации на исследование индивидуальности тела, усложнение искусства, свободный поиск и критическое мышление. В той или иной мере эта логика по инерции работает в российском танце до сих пор: на виду – тренированные тела и зрелищная хореография, в маргиналиях – телесники и так называемые перформеры.

Илл. 6. Привидение на Миусской площади в Москве. Фотограф неизвестен
Если несколько отойти в сторону от танца и взглянуть на то, какое отражение советские (особенно сталинская) культурная политика и биополитика нашли в изобразительном искусстве, мы увидим тот же страх телесности, утрату человеком связи с собственным телом. «Искусство 1930–1950-х годов породило многочисленных монстров телесной риторики. Симулякры вздутых мускулов прикрывали <…> ужасающие провалы физической опасности для тел реальных, выпавших из “тела коллектива”»20, – писала Екатерина Дёготь. Вместе с изъятием личного пространства человека лишили и индивидуального тела. Здоровое, крепкое, «победительное» тело, воспетое художниками соцреализма и запечатленное на фотографиях спортивных парадов, внушало страх: «На его стороне была власть абстракции над конкретностью и власть коллектива над индивидуальностью»21. Соц-арт и концептуализм, неофициальное искусство 1970–1980-х, предтечи нынешнего российского современного искусства, «дезавуировали сталинскую риторику, но сделали это, можно сказать, с удовольствием, оставшись внутри культуры Тотального Текста и добровольно сложив с себя все обязательства по отношению к телу. Это искусство явно игнорирует тело как в качестве предмета, так и в качестве средства высказывания <…> всякий слабо отрефлексированный физический жест в нем окружен атмосферой презрения»22. И хотя позднее российское искусство породило некоторое количество важных телесных перформансов, подозрительность к телу и танцу как искусству, которому не хватает «осмысленности и рефлексии», чувствуется и сегодня.
Но вернемся к нашей краткой истории танца. Там, где рассказ об авангардном танце завершается, возникает другая, не менее любопытная линия: исследование любительской хореографии – подцензурной, умеренной и контролируемой государством23. В СССР «самодеятельное» и «народное» во многом развивалось под руководством профессиональных хореографов, подвергалось идеологической огранке. Народный танец мог профессионализироваться, если он был виртуозным и идеологически выверенным. Так, самый известный коллектив СССР и постсоветской России, Ансамбль народного танца Игоря Моисеева, став знаменем официальной культуры, достиг невероятного профессионального уровня и объездил с гастролями весь мир. Некоторые исследователи, в том числе Екатерина Васенина, усматривают в советской самодеятельности импульс, передавшийся хореографам 1990-х от свободного движения 1910–1920-х, а также зону потайного творчества, сокрытой креативности. (Как писал Игорь Нарский, «танцорам-любителям, как и участникам других жанров самодеятельности – от музыкантов до фотолюбителей – удалось приватизировать государственный проект»24.) Эта линия размышлений, безусловно, сегодня требует разработки. Однако более распространено мнение, что в Советском Союзе неклассический танец больше пятидесяти лет подавлялся и пребывал в анабиозе, тогда как в Америке и Европе все эти годы хореография бурно развивалась. Теория «черной советской дыры» довольно устойчива в танце, хотя очевидно, что мы нуждаемся в более пристальном исследовании этой «дыры», в раскопке локальных истоков танца, который расцвел в 1980–1990-х. Впрочем, сегодня танц-художники понемногу пытаются перекроить свою историю, нащупать собственные корни в советском авангарде25 или придумать «субъективные истории танца»26.
Современный танец возрождается в России в перестройку, причем не только в Москве и Петербурге, но и в Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Красноярске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Предтечи его многообразны: это и народный танец, и хореографическая деятельность в домах культуры, и некогда популярная пантомима, но мощное развитие современного танца чаще всего связывают с падением железного занавеса и доступом к западному опыту. Иногда в новое искусство шли сложившиеся в классической школе балетмейстеры, иногда – люди из совсем других областей: инженеры, химики или математики, искавшие в танце творческую свободу. Образовательной системы, инфраструктуры, финансовой поддержки у хореографов поначалу не было – в большинстве случаев все держалось на плечах энтузиастов. Танцевальным техникам учились у американских и европейских хореографов и педагогов – дома в России и на стажировках. Границы открывались, профессиональный обмен поддерживался зарубежными культурными организациями и фондами: Французским культурным центром, Институтом имени Гёте, Фондом Форда, консульствами разных стран. В течение нескольких лет в России проводились большие фестивали – American Dance Festival и European Dance Festival.
Тех, кто начинал заниматься танцем и пластическим театром в перестройку и в 1990-е, не зря называли пионерами-миссионерами. Развитие телесных и танцевальных практик тогда действительно походило на религиозную миссию. Вспоминая то время, многие говорят о сумасшедшем энтузиазме, понимании, что перед ними открывается новый мир искусства и новая действительность, об ощущении, что все возможно. Репетиции по углам в клубах, общежитиях и театрах, спонтанные уличные выступления, открытие модерна и более мягких, терапевтичных практик вроде контактной импровизации, невероятное желание учиться и делиться полученным знанием – все это сопровождало то «блуждание на ощупь», те «эксперименты в темноте», которые возникали тут и там. Еще одна важная черта возникшего в 1990-х танца – недоверие к слову, к тому самому слову, которое долгое время исполняло, перформативно создавало советскую повседневность. Марина Русских, одна из танц-художниц, активно участвовавшая в развитии современного танца в Петербурге, пишет: «Наше поколение переживало время сильнейшего слома эпох, смены формаций, государства, идеологий, вер. Все мы остро переживали девальвацию идеологии и, как следствие, недоверие к вербальному способу выражения. Для нас очень важна была идея о том, что слово лживо, что “мысль изреченная есть ложь”, что существует некая невербализируемая истина, “мир за словом”. И доступ к этому “подлинному” и волнующему миру открывался через тело, через танец»27.
Забегая вперед, скажу, что отношения танца и слова, тела и языка – тема, которая проходит красной нитью и в истории западного танца, и в танце постсоветском. В разных ракурсах она появляется и в современном танц-перформансе, о чем мы подробнее поговорим позже.
В то время никто не чурался «самовыражения», к которому сегодня относятся с подозрением, а танцевальные эксперименты действительно возводились в разряд миссии, были окутаны атмосферой мистической, духовной, почти религиозной. Где-то совсем близко была культура нью-эйдж и культура чудес, которые становились доступны через телесные практики.
Воскрешение современного танца в 1980–1990-х во многом связано с феноменом танцтеатров. Как пишет Наталия Курюмова, этому есть несколько объяснений. Во-первых, театр в России часто ассоциировался с пространством для экспериментов и мог вместить небалетную хореографическую «ересь», во-вторых, характерный для театра синтез искусств на ранних этапах помогал скрыть недостаток исполнительской виртуозности, в-третьих, русская культура все-таки остается литературоцентричной, тяготение к театральным сюжетам сказалось и на танце28. Ну, и театр тогда был единственной понятной институцией, которая, казалось, может интегрировать и представить публике современный танец.