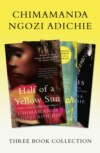Kitabı oku: «Песнь песней на улице Палермской», sayfa 5
– Нет… тот черт был намного больше, – возражает Могильщик, поглаживая темечко.
Все это время Грета стоит в дверях с улыбкой, напоминающей засохший пудинг.
– И что ты сделал? Ты его поймал? Кто-нибудь еще видел его? – Ольга смотрит на отца Йохана вызывающим взглядом.
– Хм-м… н-да, – бормочет он, так вот неуклюже прекращая беседу.
Уставясь на пакет с апельсинами, Йохан то поднимает, то опускает ногу. У него больше нет вопросов. Как и у меня.
Отец его полностью в разобранном состоянии, и лишь церковное вино поддерживает в нем жизнь. Он смотрит пустым взором:
– Иди сюда, Грета. Давай побудем немного рыжими, – гнусавит он и пытается вальсировать с женой, приволакивающей травмированную в давней аварии ногу.
– Я танцор всегда хоть куда был. Эх, черт, каких я дамочек-то кружил. Но твоя мать партнерша никудышная, видишь?
Йохан, не отвечая, смотрит на отца.
– А какая у меня прическа была шикарная… ну да, тогда у меня волос побольше было… а ботинки у меня так были начищены, что я знал цвет трусов этих девах, с которыми отплясывал. – Могильщик громко хохочет над своими шуточками. – Только ты смотри, не связывай себя так рано, как я, дьявол тебя забери совсем!
Он подходит вплотную к Йохану и дышит церковным вином прямо сыну в лицо, так что у того выступают слезы на глазах.
– Да-да, дамы, они прекрасны. И как здорово, когда их ноготки тебе в спину впиваются. Но только ты и оглянуться не успеешь, как у них в глазах мебеля появляются и пожалте бриться – изволь жениться.
Отец Йохана снова издает громкий смешок и кружит Грету, а Вибеке, подражая, пытается танцевать вместе с ним.
Ольга косится на них, а мне просто хочется домой. Мне гораздо уютнее, когда Могильщик не столь словоохотлив и не углубляется в воспоминания. Йохану отец таким, как сегодня, тоже не нравится. Он-то рыжий каждый день и знает, что заряда бодрости и веселости хватит ненадолго. В конце недели отец Йохана сильней всего похож на рыбу-молот. Глаза глядят каждый в свою сторону, им больше не о чем сообщить ни друг другу, ни окружающим. Я вижу, как он враскачку бродит по кварталу с вином Господа в жилах и дьявольским огоньком в уголках глаз, а соседи при встрече с ним опускают глаза долу.
– У отца просто радостно на душе, – шепчет Грета тоненьким, как фарфор, голоском. Но мне представляется, что вид у него не особенно радостный.
И все же Могильщик всегда сам подставляется. Ведь всякий раз надевая маску, он покупает для своих домашних апельсины. Большой пакет с испанскими цитрусовыми. Так что уже на самом раннем отрезке жизни у Йохана развивается фруктофобия. Он видеть не может красно-желтые яблоки, черные сливы и в особенности испанские апельсины.
Слезы святого Лаврентия
В августе в небе над Амагером появились Персеиды, и остров окропили слезы святого Лаврентия. Облокотившись на перила балкона на Палермской улице, мы целый час наблюдаем, как сотня с лишним метеоров величиной с трепещущее зернышко нервно вспыхивают в синем небе нежной, точно бархат, ночи. Словно бы заглядываем в небесный колодец желаний.
Всякий раз, когда зажигается новая звездочка, Ольга загадывает одно и то же желание. Она мечтает о Вечной Любви, тогда как я хочу стать величайшим колористом своего поколения. Чего желает Филиппа, помимо того, как стать космонавтом и летать в безвоздушном пространстве на русском космическом корабле, остается тайной за семью печатями. В соседнем саду стоят Йохан и вся его семья.
– Йохан! Привет, Йохан! – кричит Ольга и машет своими длинными руками.
Он слегка улыбается и машет в ответ.
Мать Йохана тоже возносит просьбы в ночь святого Лаврентия. Хотя ее муж и объясняет: «Все это никакие не падающие звезды, никакой не звездопад, ей-богу, это советские спутники».
Даже загадывать желания он своей жене не позволяет. Может, потому что знает прекрасно – лежать ему в противном случае на дне Эресунна. По крайней мере, в те дни, когда он меняет маску.
Я жуть как боюсь Йоханова отца, ведь он работает на кладбище в компании белых червей. Он стоит прямо в могиле со своей совковой лопатой и, что твой крот, в поте лица выбрасывает из ямы комья черной земли, освобождая место для еще одного бывшего человека.
Тела покойников редко разлагаются полностью, и когда старую могилу готовят для нового постояльца, в ней можно найти зубной протез, кусок полосатого жилета или часть руки. Бедренные кости, обручальные кольца и зубы остаются в земле согласно правилам содержания мест захоронений. А все остальное, по словам Йохана, убирают.
Несколько раз в неделю Могильщик встречается со смертью чуть ли не лицом к лицу. С доказательством конечности бытия, с несбывшимися мечтами. Можно, впрочем, и Ореструпа26 вспомнить: «Скоро нас разлучат, как ягоды на кусте, Вскоре исчезнем мы, как пузырьки на воде».
И каждый день ближе к вечеру отец Йохана вылезает из ямы, переодевается и отправляется домой, где его ждет приготовленный Гретой рубленый бифштекс. Но иногда, воодушевленный тем, что не его сегодня хоронили, он заявляет:
– Грета, выброси бифштекс в помойку. Мы идем в ресторан.
Такие спонтанные решения никого не вдохновляют. Ибо эйфория испаряется, и отец Йохана возвращается к действительности, как правило, еще до закусок. Настроение у него меняется, и он начинает жалеть о совершенном широком жесте задолго до того, как им подадут креветочный коктейль. В итоге остаются лишь ощущение неудобства и осознание собственной никчемности и убогости, а еще дикая злоба на себя самого и все вокруг:
«Это лишь краткая отсрочка. Все мы умрем, а какие его желания, собственно говоря, осуществились, с тех пор как он в юности гонял на мопеде и мечтал о чем-то большем? Он, может, даже священником стать хотел: твердой рукой наставлять свою паству по воскресеньям и ни в коем случае не давать ей расслабиться. А что получилось на деле?»
Над столом нависает атмосфера жуткой хандры. Мать Йохана разглядывает матерчатую салфетку, время от времени посматривая искоса на других посетителей. Они тоже заметили перемену настроения в ресторане? Ведь Могильщик вдруг вспоминает, что нет у него денег на оплату таких экстравагантных выходок. И что лишь благодаря доставшемуся Грете наследству от матери они живут теперь в собственном доме на Палермской улице, а не в однокомнатной халупе на Вестербро.
Из-за того что этот последний и главный козырь находится на руках у Греты, Могильщик приходит в полное бешенство, а Йохан начинает стучать по столу костяшками пальцев и трясти левой ногой.
– Не выеживайся, веди себя как следует! – Могильщик отвешивает сыну подзатыльник.
Другие гости исподтишка поглядывают на них и приглушают голоса, а Грета от стыда готова сквозь землю провалиться.
Не выдержав напряжения момента, Вибеке роняет на пол стакан, и тот разлетается на тысячи мелких осколков. Подоспевший с совком и щеткой официант улыбается ей.
– Все в порядке, не волнуйся! – шепотом утешает он Вибеке, чем еще сильнее раззадоривает Могильщика. Это полная катастрофа.
– Да твою дочь вообще никуда с собой брать нельзя! – говорит он Грете.
Йохан смотрит на Вибеке, надеясь, что младшая сестренка не слышала, как отец вычеркнул ее из списка своих отпрысков.
С Могильщика лучше не спускать глаз, чтобы не упустить момент, когда он выйдет на авансцену, ибо никто никогда не знает, что может взбрести ему в голову. Вот и кажется, что дом их построен на зыбучих песках и больше всего походит на курятник, в котором поселилась лиса.
* * *
И вот уже Ольга распевает религиозные песни с Гретой несколько дней в неделю. Обычно после вечернего кофе. Но только если Могильщик отправился запивать червей, каковая процедура может продолжаться до полуночи. В таких случаях я присоединяюсь к ним и делаю наброски, пока сестра моя поет:
«Ангел света пролетел в сиянье… Радость в сердце воспарит…»
Йохан и Вибеке слушают, стоя в дверях. Младшая сестричка – в ночной рубашке, с открытым ртом, а Йохан – с банкой паштета в руке. Паштет – единственное, что он может протолкнуть в горло, и в тот день, когда обнаружилось, что Ольга тоже страсть как любит этот продукт, они заключили между собой вечный союз. В школе они меняются завтраками с другими учениками, и на переменках рядом с ними громоздятся горы бутербродов с паштетом. По иронии судьбы, я потребляю все, кроме паштета. И тем не менее Ольга с Йоханом приняли меня в круг посвященных.
Два месяца Ольга распевала одни и те же восемь псалмов, и теперь ей захотелось испытать силы в чем-то новом. Она принесла Грете дедовы ноты под мышкой и поставила на подставку для нот.
– «Кармен»! Вот что мы будем петь сегодня!
Йоханова мать с трудом и ошибками справляется с арией Кармен. «Хабанеру» надо исполнять вызывающе страстно. И Ольга к этому совершенно готова, да вот только орга́н запаздывает чуть ли не на целый такт. Словно замученная одышкой жилица дома для престарелых в Сундбю. Красоты не получается, получается неудачная копия.
– Нет, я это сыграть не смогу, – шепчет Грета. – Давай лучше возьмем «Наш Бог, он нам оплот».
Однако Ольге под силу уговорить кого угодно:
– Давай же, Грета, давай! Это ведь «КАРМЕН»! Это будет фантастика.
Сестра моя расставляет на дистанции самые высокие барьеры.
Она воздевает стройные руки вверх, как бы взывая к небу; их трудно уместить на листе моего альбома для зарисовок. Все выше и выше поднимаются они и вдруг падают с быстротой молнии, точно играя в салки с голосовыми связками. Птицы устремляются в отчаяние подвального мрака. Prends garde à toi27. Большой и указательный пальцы Ольги скрещиваются и мгновение вибрируют в таком положении. Потом она растопыривает их, и последний звук взмывает ввысь, словно поющая ракета, означающая сигнал бедствия. Звук достигает самого верхнего слоя неба, а потом, точно в замедленной съемке, опускается в море. И на краткий миг комната окрашивается в кроваво-красные тона, пока не наступает кромешная тьма.
За моей спиной в огромной гостиной у Йохана висит постер с Цыганкой. Ее глаза с ненавистью глядят на новую соперницу, особенно когда сестра моя с такой страстью исполняет «Хабанеру». И я ее прекрасно понимаю. Золото сверкает у нее в ушах, плечи обнажены, белые бретельки спущены непозволительно низко, но наперекор всему она принимает взгляд Йохана. Блестящая шелковая юбка розового цвета призывает зрителя окунуться в блаженные погибельные мечты и желания без малейшего намека на раскаяние. Йохан закашливается, и я вижу, как меняется цвет его лица. То же самое происходит с ним, когда он глазеет на Ольгу.
«Любовь свободна, век кочуя… Меня не любишь, но люблю я… Так берегись любви моей».
В тот вечер Могильщик тоже заявился домой раньше срока с пакетом испанских фруктов под мышкой. Он платил за всех в кабаке, и карманы его пусты. А до первого числа следующего месяца еще ой как далеко. Сестра моя стоит у орга́на, готовая к бою, а я сижу между Йоханом и Вибеке, примерзнув к дивану.
Грета, вздохнув, поднимается с места и отправляется в кухню, где начинает греметь кастрюлями. Ольгины уши давно уже уловили сигналы тревоги, а мать Йохана, я вижу, притаилась за мойкой. Обеспечив себе тыл, спрятавшись за нерушимой стеной. Отец же стены не замечает. Он роняет пакет, и апельсины катятся по полу во все стороны, отчего у Вибеке еще шире открывается рот. Тогда Могильщик берет полосатое кухонное полотенце и принимает боевую позу по другую сторону раковины, точно собираясь вытирать посуду. Обычно его нога не ступает на кухню, что дает Грете возможность передохнуть. Но сейчас пауза не предусмотрена. Между супругами всего лишь мойка, хотя на самом деле их разделяет океан. Посуда, похоже, расставлена не в нужном порядке и не на тех полках, и вот из кухни доносится грохот бьющегося фарфора. Звучат резкие бело-голубые звуки, и на поле боя остаются лежать раненые апельсины.
– Ты что творишь-то, Грета, черт бы тебя побрал совсем? Да у тебя не руки, а крюки!
– Это не я… – робким голосом оправдывается Грета, но оказывается не в силах закончить предложение.
Брызжет апельсинная кровь, звон посуды и крики выводят сестру мою из транса, и она выбегает вон из дома. А я со всех ног мчусь за ней.
Позже вечером мы наблюдаем с балкона, как Йоханов отец, сидя в одних трусах на кухне, пытается склеить разбитую посуду. А Вибеке тем временем расположилась на полу посреди апельсинов и составляет из осколков новые узоры. Руки Могильщика, как и положено землекопу, загрубелые, но в то же время поразительно сноровистые. Впрочем, как бы ловко он ни старался, все равно на десертных и прочих тарелках останутся темные следы склейки.
После такого вот интермеццо Йоханов отец несколько дней дома не появляется. И все живущие там существа облегченно вздыхают. У соседей снова на полную катушку звучит «За морем света – света море», в том числе и поздним вечером, когда пора укладываться спать. Это значит, что Грета в гостиной одна. Сама я тоже не могу заснуть. Ольга лежит в своей постели и тихонько подпевает. Я слышу, как мать захлопывает окно. Совсем задолбали ее меланхолические классики религиозных песнопений.
– Сделай тише, Грета!
И тут Мириам Макеба28 на полной громкости начинает исполнять «Пата Пата» на нашем граммофоне.
Той же ночью мне снится, будто мать Йохана жарит индейку. Плотный черный дым валит из кухни. Я пробую достать птицу из духовки и обнаруживаю, что она завернута в рабочие портки Могильщика и прожарена едва ли не насквозь, почти что кремирована.
* * *
Понять, что у Ольги особый дар, весьма несложно. В том числе и Йохановой матери. Но чтобы развить такой божественный голос, требуется квалифицированный наставник. Таланту сестры моей необходимо выйти в мир, а Грета страшится открытых пространств. И кроме того, ее ужасно угнетает, что муж нарушает общественный порядок всякий раз, когда Ольга поет у них в гостиной. И тогда мать Йохана набирается мужества и находит телефон самого крутого учителя пения современности.
– Блюменсот! – наверное, раздается на другом конце провода. Элла Блюменсот. Характер у Эллы Блюменсот тверже камня. Всем, кто говорит с нею, хочется приложить руку к козырьку.
Однако, услышав невнятные Гретины похвалы Ольге и ее огромному таланту, она соглашается прослушать мою сестру.
После чего следует вердикт:
– Если ты отдашь пению всю себя до последней капли крови. Если не менее двух часов в день станешь учиться тонкостям колоратуры, укрепишь диафрагму и научишься контролировать вибрато. И если ты никогда, НИКОГДА не утратишь эмоциональную искренность своего голоса. Что ж, тогда, возможно, ты далеко пойдешь!
Давненько уже Элла Блюменсот не высказывалась о своих учениках в таком восторженном ключе.
Живет она далеко, в районе Фредериксберг, но туда напрямую ходит трамвай, а оплачивает уроки папа.
К сожалению, ни я, ни Вибеке, ни Йохан не можем сопровождать Ольгу, отчего кровь у меня прямо-таки закипает. Не может ведь быть так, чтобы сестра оставляла меня одну на Палермской и это было в порядке вещей? Ибо всякий раз она возвращается домой, выучив что-то новое. И каждое такое приобретение нового опыта, нового навыка еще глубже вбивает клин между ней и мною.
«Хайдеманн» же, напротив, тает от восторга, он счастлив наконец-то аккомпанировать подлинному таланту. Эти двое дополняют друг друга в такой степени, что остается лишь диву даваться.
– Подумать только, ведь все это она унаследовала от деда, – улыбается моя мать. – А вот меня он так и не смог научить любить Брамса, хотя страсть как старался. Господи, прости! Я добралась только до Traurig doch gelassen29 и на этом сдулась.
Мать моя предпочитает отплясывать под «Пата Пата» или же выбивать смешами30 с корта стюардессу Лиззи на спортивном комплексе Клёвермаркен.
А я тем временем стою у мольберта в беретке и халатике, который стала носить, чтобы мир успел подготовиться к моему будущему успеху, и отчаянно пытаюсь сконцентрироваться на игре цвета между двумя зарянками, сидящими на черно-белой березовой ветке. Меня отвлекает совершенное исполнение арий в гостиной. Сестра моя и вправду вундеркинд. Дело в том, что вскоре после начала занятий с настоящим преподавателем голос Ольги научился испускать ласточек с раздвоенным хвостом и вызывать внезапные слезы у обитателей второго этажа.
«У любви, как у пташки, крылья».
– Поеду-ка я на собачьи бега, – говорит Варинька и после обеда исчезает на весь день до вечера, явно недовольная тем, что «Хайдеманн» и Чайковский возродились из пепла.
Филиппа обращается за помощью к наушникам и слушает на катушечном магнитофоне лекцию сейсмолога Инге Леманн31 о внутреннем ядре Земли.
Сама же я плачу втихаря, завидуя этой красоте. Сестра моя поет так легко, как будто имеет особый доступ ко всем слезным каналам мира. Мне кажется, я слышу завораживающее пение сирен, а сама Ольга, по-видимому, в этом ничуть не сомневается. Голос ее звучит из открытых окон и словно бы исполняет симфонию для всех дикорастущих растений в саду. Ибо в тот момент, когда она начинает исполнять Пуччини, все дедовы вьюнки возвращаются к жизни. Кусты-хамелеоны, ползучая гортензия, плющ обыкновенный и глициния появляются из земли, извиваясь, точно змеи под дудочку заклинателя, вместе с лесным папоротником и армией пламенеющих маков, делающих реверанс под дуновением ветра, а потом приподнимающих свои прозрачные юбки. Моя сестричка-двойняшка, исполняя свои арии, словно бы дирижирует всем садом.
– Великолепно, Ольга! Так красиво! – говорит папа, который никак не научится отличать своих дочерей друг от друга.
Это меня ранит… «Ну неужели ему все равно? Хотя бы изредка мог бы заметить разницу между нами?»
Ольга, в отличие от меня, в похвалах вообще не нуждается. И отдавать должное нужно по потребностям, а не исходя из благородной идеи о всеобщем равенстве. Кисти мои замирают, а грудь сжимается в какой-то лихорадочной тоске всякий раз, когда Ольга и «Хайдеманн» запираются вместе, чтобы разучивать эолийский лад, или сливаются в экстазе. Когда папа садится на диван и слушает голос моей сестры, я погружаюсь в кислотную ванну зависти.
Волю вьюнков к размножению обуздать невозможно. Отец пробует обреза́ть их, а Варинька насылает на сад тучи хлорки и пестицидов, но ничего не помогает. Пока в доме поют оперные арии, вьюнки вырастают за ночь, обвивая все вокруг. Дело кончается тем, что папа подстригает траву только на небольшом прямоугольнике прямо перед террасой, чтобы мать моя имела возможность загорать в своем новом купальнике, погружаясь в мечты об обтянутых шелком балетках.
* * *
«До, ре, ми… Не забудь поработать диафрагмой. Нет, не так! Давай сначала!»
Ольга сама направляет себя, позаимствовав у Эллы Блюменсот резкий голос и привычные замечания, чтобы выжать из себя все возможное, реализовать весь свой потенциал. Да и «Хайдеманну» от нее достается. Стоит пианино запоздать хоть на четверть такта или голосовым связкам моей сестрички сработать небезупречно, как она врывается в нашу с ней обитель и с грохотом захлопывает дверь. И по всей комнате начинают летать ноты, бутерброды с паштетом, русские проклятия и те зверушки-игрушки, что все еще живут в наших постелях:
– Дерьмо, тупица! Шопа! Жопа сраная!
Тумаков достается всем, потому как утешения не найти, и даже зверушки-игрушки не выражают сочувствия, а просто сидят и смотрят прямо перед собой своими пустыми стеклянными глазками-пуговками.
И от бессильной злобы на себя самое Ольга снова впивается зубами в руку, на которой от запястья до локтя и так уже светятся маленькие красные отметинки от укусов.
– Дрянь, сука, дерьмо, задница, засранка, сволочь, жопа… – но вскоре Ольга выдыхается. – Ну, ладно, ладно, – пытается она найти слова утешения и берет меховых зверушек на руки. – Вот и мамочка пришла.
И снова навостряются плюшевые ушки. Маленький Шива.
Тем временем у меня все в большей степени начинает проявляться синдром Флоренс Найтингейл32. С первых дней жизни я испытывала особую любовь к попавшим в беду существам, покрытым мехом, колючками или перьями. Я постоянно притаскиваю домой животных, нуждающихся, на мой взгляд, в помощи. То синичку со сломанным крылышком, которая оказывается столь наглой, чтобы 1 декабря открыть сразу же все окошечки в нашем адвент-календаре33. То жука без лапок или мокрого насквозь красноглазого кролика-альбиноса, которого кто-то пытался утопить в купальне спорткомплекса «Гельголанд».
И, насколько мне известно, я была единственной, кто перенес угодившую под машину белку за обочину. Так здорово чувствовать себя необходимой – если не сказать незаменимой – для кого-то! Подобного рода жесты вознаграждаются благодарностью, но вскоре оборачиваются бледной копией оригинального произведения, а именно любовью к тому, кто и пальцем не пошевелил, чтобы сделать благое дело. Ольга вон вовсе не добивается ни похвал, ни признаний, а ее боготворят – и всё.
Мои домашние, как правило, мирятся с животными недолго. Да, конечно, мать моя без ума от кроличьего меха, но по большей части того, что висит на вешалках универмага «Магазин дю Норд»34. А внизу, у Вариньки, они вполне могут закончить свою жизнь в суповой кастрюле, так что я не решаюсь их там оставлять. Вот почему живность моя вскоре переезжает в папину голубятню под плакучей ивой в задней части сада, где есть все для ухода за ними. Там они ожидают, когда я приду их утешить. Или когда сестра моя споет для них арию о неразделенной любви.
Филиппа же, как всегда, выполняет предназначенную ей миссию. По большей части в своей комнате. Ее поиски разгадок тайн Вселенной начались в восьмилетнем возрасте, когда собака Лайка совершила полет в космос. А через несколько лет Юрий Гагарин облетел в безвоздушном пространстве всю Землю за сто восемь минут. Сидеть в скафандре, этой железной консервной банке в космическом корабле на уровне орбиты Луны, – вот в чем была, есть и пребудет миссия Филиппы, несмотря на ее весьма шаткое здоровье.
Ее невозможно обнять, потому что одно плечо намного ниже другого. Она ковыляет по округе, точно одинокий странник, и никогда ни с кем не играет. Зато старшей сестре моей очень нравится глядеть на облака.
– Филиппа рождена звездочетом. Так называют детей, которые являются на свет с лицом, обращенным к небу, – это папино объяснение.
Теперь же старшая моя сестра по большей части сидит в своей комнате и изучает космические путешествия русских. Только что на корабле «Восток-6» в космос запустили первую в мире женщину-космонавта. Трое суток спустя Валентина Терешкова в добром здравии возвращается на Землю.
И кто же станет следующей женщиной в космосе?
Когда Филиппа не изучает историю покорения космоса и не лежит в больнице в Сундбю, она рассеянно бродит по дому, натыкаясь на мебель, а то и передвигается во сне. Несколько раз мы видели, как она идет по саду в белой ночнушке. Точно ангел движется сквозь ночь при свете полной луны. Иногда можно услышать, как она ступает по половицам в доме. Мы встречаемся на лестнице, и Филиппа проходит мимо, не замечая меня, с пустым стеклянным взглядом, и ничего этого не помнит на следующий день.
Мать моя в отчаянии, потому что никому нет входа в голову Филиппы. Некоторые доли ее мозга словно заколочены досками. Эти комнаты не использовались в новейшее время, но если взяться за ручку двери, можно услышать, как внутри хлопает крыльями журавль. Если опуститься на колени и заглянуть в замочную скважину, можно разглядеть в темном помещении контуры поблескивающих без чехлов предметов мебели. Они странным образом обнажают себя перед людьми, точно на полотне Хаммерсхёя35. А если там вдруг и появится какое-либо живое существо, увидеть его можно только со спины.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.