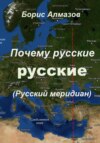Kitabı oku: «Дорога на Стамбул. Первая часть», sayfa 5
– Вспомнил! – вскрикнул Осип. – Вспомнил, где я вас видел, господин Потапов. В прошлом году в Петербурге на рабочей сходке. Я еще вас спрашивал, как в охотники записаться… Не припоминаете?
– Нет, брат, – честно признался Потапов. – Ну и что, ходил в Славянский комитет?
– Ходил, да что толку… Я тогда срочную служил. А теперь вот мобилизации жду.
– Ну, ее можно ждать до второго пришествия… То есть, возможно, она и будет, так, во всяком случае, в церкви обещают!
– Да как же! – сказал горячо Осип. – Как же не быть! Ведь весь народ этой войны хочет.
– Вот тебе и ответ! – сказал Генчо. – Я не отрицаю, может быть, правительство начинало кампанию в поддержку освобождения балканских христиан, имея в виду свои цели, но сейчас разбужена национальная солидарность, и правительство вынуждено поступить так, как желает народ…
– Посмотрим! – сказал Потапов. – Не похоже что-то. Еще живы воспоминания, как нам в Севастополе дали по морде. По нашей самодовольной великодержавной роже…
«Будто радуется! – подумал неприязненно Осип.– Чудно!»
– Что? – засмеялся Потапов, перехватив Осипов взгляд. – Вам мои слова не по нутру?
– Не по нутру! – резко ответил Осип. – Не люблю, когда над моей, значит, державой насмехаются.
– Он не насмехается, – мягко сказал Генчо. – Он сам страдает. А эта война породила надежду в болгарах…
– И дала им возможность заработать миллионы на военных поставках туркам…
– Как так? – в один голос ахнули Осип и Никита.
– А вот так! – зло улыбаясь, сказал Потапов. – Вся Болгария шила туркам мундиры…
– Ну, допустим, не вся, – сказал Генчо.
– Это правда? – глядя ему прямо в глаза, спросил Осип.
– Да! – ответил болгарин, не отводя глаз. Минуту они смотрели друг другу в глаза.
– Хорошо, что не отказываетесь, – сказал Осип и потянулся снять с огня чайник.
– Почему хорошо? – улыбнулся Генчо.
– Стало быть, это я чего-то не понимаю, – хмуро ответил казак.
Потапов захохотал. Но Генчо, мгновенно посерьезнев, как он умел, сказал:
– Да, болгары шили мундиры и поставляли сукно туркам. Да, болгары поставляли продовольствие и давали деньги в рост… Да!
– На что вы нам это все говорите?! – сказал Никита, помрачневший вслед за Осипом.
– А действительно? – все еще улыбаясь и ерничая, переспросил Потапов. – Они же в Болгарию воевать собрались… Они же, я так понимаю, охотниками идти намылились. А тут такой пассаж… Такое развенчание..
– В тысячу восемьсот двадцать пятом году! – ответил Потапову Генчо. – На Сенатской площади стояли полки… Их сметала картечь… Но почему они вышли на площадь, чего добивались, знали офицеры, и то не все… Из солдат же цели не ведал никто.
– Что ты этим хочешь сказать?
– История страшно отомстит вам за это…
– За что? За…
– За то, что вы решили облагодетельствовать народ и, не спросясь народа, желает ли он ваших благодеяний, подставили его под картечь. Это вам, Потапов, ответ на то, почему мужики забивают колами ваших пропагандистов… в деревнях… – Генчо говорил твердо, видно, что говорил давно обдуманное. – Я не хочу обманывать людей, которые готовы отдать жизнь за освобождение моего народа… Да, казак! Да! Болгары делали все это! Да! И когда Ботев призывал народ взяться за оружие, ему не открыли ворот… Да, это так… И ваше право выбирать, идти на войну или нет. Но я хочу сказать, что те же самые люди, что не отворили двери своих домов Ботеву, через два дня до последней капли крови сражались с турками-карателями…
– Это не довод! Они защищали самих себя, – встрял Потапов.
– Да, они защищали самих себя! Пятьсот лет они защищали самих себя и еще иллюзию, совершенно беспочвенную иллюзию, что каждый народ имеет право жить так, как считает нужным! Народ не может состоять из одних героев. Как не может состоять из одних негодяев… Но за то, что в болгарах меньше рабства, чем могли бы породить полтысячелетия угнетения, говорит хотя бы то, что этот народ существует. Что он сохранил язык, культуру, что он все пятьсот лет не переставал бороться за иллюзию… И не поменял ее на материальное благополучие… и безопасность… Я не знаю, что вы решите, идти или не идти, но я могу сказать только свое мнение: болгарский народ достоин свободы хотя бы потому, что за пятьсот лет рабства не утратил тоски по ней!
Они еще долго говорили – о чем, Осип уже не мог вспомнить. Никита ушел спать в балаган под телегой, где уже давно задавал храповицкого Васятка, подставив луне босые черные пятки. Потапов и Генчо спорили о чем-то совершенно непонятном Осипу. А он сидел подавленный настолько, что даже не знал, о чем спросить Генчо или студента…
Отдохнув, гости собрались в дорогу. Осип снабдил их снедью и довел до брода через Собень. Пожав на прощание казаку руку, двое ушли в темноту. Осип послушал, как под их ногами плещет вода, и, когда шаги стихли, вернулся к костру – спать.
2. Чуть посветлело на востоке. Осип раздул подернутые сизым пеплом рубиновые угли костра, подвинул тлевшее бревно и повесил над огнем остывший чайник.
Потом спустился к Собени – умыться. Туман белым молоком разливался по всей пойме и только над самой водой отступал и висел плотным облаком. В его вязкой призрачной белизне прибрежные кусты и деревья теряли свои очертания, а соседний близкий берег был совсем не виден. Казак ступил в теплую воду, с наслаждением облился водой до пояса, крепко протер подобравшиеся от утренней прохлады мышцы холстинковым полотенцем.
Никита с отлежанной щекой и соломой в кудрявой голове сидел, зябко пожимаясь, у костра, дожидался чаю.
– Ополоснись! – посоветовал Осип.
– Бррр… – передернуло Никиту.
Из балагана на карачках выполз Васятка.
– Рачницы смотрели? А? Чего поймалось?
– Иди хоть рожу умой! – сказал старший брат. – Нет тебе угомону! Всю ночь меня коленками пихал. А и то! – сказал он Осипу. – Разбередили мне душу вчерашние-то… Живут же где-то люди. Страсти… события… А тут зараз как в этом тумане пребываешь… Ни день ни ночь… И вдале ничо не маячит. Господи! Ну хоша б какую перемену послал! А то так и вся жизня пройдет…
– Есть! – закричал от реки Васятка. – Вона сколь их! Вона! С усами…
– От баламут, – засмеялся Осип. – Зараз к рачницам полез. Не даст чаю попить! Он схватил корзину и побежал к воде. Васятка, перегнувшись, тащил из воды сито рачницы.
– Осип! Подсоби…
– Давай травы мокрой! – велел Осип. – В корзинку!
В решете копошились черно-лаковые, цвета нового голенища, раки. Тяжелые, в хорошую, мужскую пятерню, самцы давили и отпихивали раков поменьше, норовя впиться в мясо приманки.
– Не суй пальцы! Не суй пальцы! А то враз отщемят! – отпихнул казак мальчишку. – Вона у их каки ножницы…
Раки, злобно щелкая клешнями, пятились, тараща бусины глаз, шевелили длиннющими усами.
Осип азартно хватал их за пупырчатые панцири и швырял в корзину, перекладывая каждый слой мокрой речной и пойменной травою.
Полную корзину накрыли плетеной крышкой и поставили под берегом в воду.
На четвертой корзине азарт прошел, и стало уже неинтересно отрывать черных зверюг от приманки и швырять их в корзинку. Васятка совсем отрешился, гоняя здоровенного рака тростиной по песку.
– Ну вот! Еще полкорзинки руками наловим, и ладно будет.
Осип снял шаровары и, подсучив сподники, пошел шарить в воде под берегом, нащупывая усатых панцироносцев в их норах, хватая их за спины, за усы, порой попадая пальцами в клешни, крепкие, как бельевые прищепки.
– Идите чай пить! Скипел! – сказал, появляясь из тумана, зевающий Никита.
Торопливо наполнили последнюю корзину, до поры поставили в воду и сели завтракать.
Не успели съесть по куску хлеба, как в тумане гулко затопали копыта и к костру присунулись три лошадиные морды.
– Кто такие? – спросил сверху строгий голос.
– Жители тутошние, – сказал Осип, поднимаясь от костра. – Раков промышляем.
Он с удивлением увидел, что разъезд жандармский, а не казачий.
– Никого тут не встречали?
– Вроде никого! – сказал Никита. – Никого, вашбродь!.. Ловите, что ль, кого?
– Не твоего ума дело! – оборвал жандарм. – Давай вправо и влево по берегу, – приказал он солдатам.
– Тут вчера двое городских не шлялись? – спросил он, пристально глядя в лицо Осипу.
– Да нет, – сказал Никита. – Мы поздно приехали, да и спать легли… А что они натворили?
– Не твоего ума дело! – опять осадил его жандарм, поворачивая коня. – Встречаемся у Тимофеевского кургана. – Конь фыркнул Осипу в лицо и, тяжко, горячо дыша, принял под берег. Жандармы-солдаты двинулись следом. Скоро послышались всплески: всадники пошли вдоль берега по воде.
«Вона, значит, против кого на дорогах пикета поставлены! – понял Осип. – Политических ловят». Но как это он приказной Войска Донского смолчал и вроде как способствовал преступникам, коих разыскивает власть? Однако хватать и вязать Генчо и Василия было немыслимо…
Никита же всей душою был на стороне вчерашних посетителей и своим враньем вынудил и Осипа вроде бы как стать соучастником укрывательства.
Васятка, который проникся происшедшим, молчал и только таращил черные раскосые, как у отца, глаза.
«Да как же это можно? – думал Осип. – Как же можно своего царя не любить?»
Государь всегда представлялся казаку существом необыкновенным. Даже внешне, думалось, он должен быть выше, крупнее других, а уж душевными качествами намного обильнее. Царь добр! Он слышал о том, что некий петербуржец стрелял в царя. Ну так мало ли сумасшедших? Осип в детстве видел, как допившийся до белой горячки казак порубил шашкой всю скотину и гонялся за детьми и женой… Его ловили арканами и вязали, буквально втаптывая сапогами в землю! Вот и этот стрелявший представлялся ему таким же!
Вчерашний гость – политический Потапов – говорил о царе зло и пренебрежительно, называя его первым помещиком и началом всех зол…
Осип удивлялся себе: почему он слушал? Почему он, казак Войска Донского, позволил такие речи в присутствии Никиты и Васятки, которые были моложе, и, стало быть, он был за них перед Богом и людьми в ответе.
И тут же Осип понимал, что Потапов говорил убедительно! Всей душой восставая против его слов, Осип ничего не мог возразить. Больше того, возникал неотвязный вопрос: как же царь, который одним мановением руки, одним словом может закоренелого убийцу освободить от виселицы, не пришел на выручку нескольким сотням невинно гибнущих людей, когда запарывали хутор Зароков?
– Государь не знал! Ему не сказали! – шептал Осип.
Но почему государь не позволяет волонтерам ехать спасать братьев-христиан? Почему?
Голова шла кругом. И только страшное событие, случившееся в эту ночь у них дома, заставило забыть на некоторое время мучительные вопросы. Ребенок Аграфены умер.
3. На кухне встревоженные, заспанные приказчики расспрашивали стряпуху, как все случилось, и она, с важностью человека, непривычного быть в центре внимания, рассказывала, что «дите родилось квелое», до срока, что грудь нипочем не брало. А под утро взяло да и дышать перестало.
Домна Платонна, сама схоронившая четверых, рыдала так, что бегали за доктором, и теперь она лежала в спальне, куда Гулька-татарка с вытаращенными раскосыми углями глаз таскала лед из погреба в пузыре.
Осип отпихнул плечом стряпуху и, наклонясь, шагнул в Аграфенину каморку.
В сумраке закрытого ставнями окна он увидел маленький сверток на сиротливой льдине Аграфениной койки и только потом саму Аграфену, забившуюся в угол каморки и глядевшую сухими глазами прямо перед собой.
Осип шагнул к ней, и Аграфена, вдруг страшно вскрикнув, ударилась лбом в его широкую грудь и, обрывая на казаке рубаху, повалилась на пол.
Осип вытащил ее на кухню. Рявкнул на приказчиков так, что они, будто сливы с дерева, сыпанули во двор, и, обхватив худые плечи женщины, стал лить на ее иссиня бледное лицо воду, совать под нос вату с нашатырем, вливать в мертво сцепленный рот валерьянку.
Демьян Васильевич заглянул было в кухню, но, увидев, что тут без него туго, махнул рукой и скрылся в лавку. Осип со стряпухой с трудом вернули женщине сознание. Обмякшую, словно бы всю заледеневшую, отнесли на стряпухину кровать.
Аграфена, с прилипшими ко лбу змеящимися черными нитями волос, с обострив
шимися скулами и проваленными глазницами, была покорна, как неостывший труп. С трудом поворачивая глазами, она нашла Осипа и сказала-прошелестела:
– Осип Ляксеич… гробик бы надо… Осип положил руку на ее ледяной лоб и погладил ее своей горячей широкой ладонью. И она, вцепившись своими маленькими руками в него, вдруг зашептала горячо, бредово:
– Ведь некрещеный ребенок-то… некрещеный… безымянный… Стало-ть,закопают, как собаку, поминать нельзя. Сталоть, и не увижу я его никогда боле. Мне, грешнице, в аду гореть… Так я бы хоть из мук огненных его в блаженстве видела… А то его и не будет нигде, не сыскать не увидеть… Господи, – закричала она звериным голосом, – за что осиротил… За что растерзал меня… За что лишил однова моего сокровища…
Она начала выгибаться и биться на кровати так, что Осип еле удержал ее от того, чтобы в беспамятстве она не разбила голову о железную спинку.
Часа через полтора он в располосованной до голого живота рубахе, мокрый от разлитой ледяной воды, шатаясь вышел на черное крыльцо, отдышался. И поплелся в сарай сколачивать гроб.
– Эх, Осип, – сказал ему конюх Гаврила, который почитался совершенным дураком. – – Эх, Осип, и что это завсегда вся самая, стало быть, такая работа тебе достается… Как нужник чистить – так мне, а как чего, значит, чтобы сердце надорвалось, так тебе… За что нас хозяин так мытарит?
– Про тебя не знаю, – ответил, дивясь разумной речи Гаврилы, казак. – А меня не хозяин, меня Бог испытывает… Я чаю, он ведет меня к чему-то, значит, да только вот, по грехам своим, не разберу к чему…
– Эх, грехи, грехи наши тяжкие, – вздохнул Гаврила и достал откуда-то припасенные струганые дощечки. – Красить-то будем? – спросил он, когда Осип споро сколотил последнюю колыбель человека, так и не успевшего покачаться в первой, настоящей…
– Будем, – твердо ответил Осип.
– Так ведь все едино сгниет!
– Это не для земли, это для Аграфены… Крась, я к попу схожу.
Отец Ефрем недавно закончил курс семинарии и, быстро пройдя чин дьякона, принял богатый приход в Жулановской. Он считался человеком либеральным, выписывал газеты, жена его, окончив курс гимназии, была одной из самых образованных женщин слободы, носила пенсне и курила папиросы, за что молодой священник имел от своего начальства порицания.
Он только что закончил обед, когда Осип переступил порог его большого уютного дома.
Осип помнил отца Ефрема еще по городскому училищу, куда они бегали вместе и где будущий пастырь славился как завзятый драчун. Сейчас от прежнего конопатого и веселого сорванца в нем не осталось и следа.
– Знаю, знаю, мой милый, с чем пришел, – сказал он казаку, неторопливо расхаживая по комнате, ступая то на желтые плиты солнца, бьющего из окон, то на лиловые отсветы занавесок.
Его жена вышла из соседней комнаты, стала у притолоки, прислушиваясь к спотыкающейся пьесе, которую барабанил на пианино ее ученик – сын аптекаря, и время от времени раздраженно выкрикивая:
– И раз и два… и три… пауза… раз…
– Согласно церковным установлениям…
– Ефрем! – резко сказала попадья. – Ты должен помочь!
– Что значит «помочь»! Выше головы не прыгнешь. В конце концов, не могу же я крестить усопшего… Я, конечно, поищу какой-нибудь выход… Разумеется, мы что-нибудь придумаем…
Осип смотрел на лиловые занавески и бархатные скатерти, на золотые пылинки, толкавшиеся в снопах солнечного света, и ему было неловко и своих огромных стоптанных сапог, и линялой рубахи, даже шаровары с лампасами казались тут совершенно неуместны, в этом доме другого мира, с кадками цветов, дорогими иконами и малиновым светом лампады.
Осип поблагодарил. Ткнулся в руку, пахнущую дорогим табаком и ладаном, – странно было целовать руку своему однокласснику. Но батюшка не смутился, привычно благословил казака, и он, нахлобучив фуражку, скатился с крыльца.
Он слышал, как священник заспорил с. женой. То есть она принялась что-то доказывать раздраженным высоким голосом. Он что-то возражал, до Осипа долетали отдельные фразы:
– Да… друг мой, при чем тут служение людям? При чем? Не могу же я…
«Конечно, – думал Осип, шагая по улице. – Есть правило навроде устава, и священник не может его нарушать… Но, с другой стороны, он же душе человеческой служит… Нешто тут каки незыблемые правила есть? Не об ребенке речь… Аграфену пожалеть надобно. Эх…»
Вечером он перекинул через плечо связанное узлом полотенце, подвязал под мышку гробик и, прихватив лопату, пошел с Аграфеной хоронить младенца.
Аграфена молчала во все время, пока он копал могилу с внешней стороны кладбищенской ограды, зарывал, ровнял холмик без креста. И только когда они шли обратно и он вел под руку дрожащую нервной мелкой дрожью и не могущую согреться женщину, она вдруг сказала ему:
– Спасибо тебе, Осип Ляксеич… В одном тебе душа человечья. А что без креста похоронили… Бог-то не посмотрит. Это ведь все люди выдумали, чтобы, значит, на кладбище… да с крестом. Бог-то не пристав, чтобы, значит, все предписания сполнять… Бог-то, Он отец, Он простит…
– Верно. Верно, горькая ты моя… – жалел ее Осип, понимая, что ничем помочь в горе этой женщине не в силах.
– Я тебя вот о чем попросить хотела, – сказала, глядя ему прямо в глаза черными провалами глазниц, Аграфена. – Только ты сначала побожись, что исполнишь.
Осип перекрестился.
– Ты меня с моим ребеночком схорони.
– Да ты что, Фенечка! – ахнул Осип. – Да в твои ли годы об этом думать! Ты что, голубушка моя, все образуется…
– Смотри, – сказала Аграфена. – Ты перед Богом обещался…
Глава четвертая Жулановская слобода 20 сентября 1876 г.
1. По старой привычке Демьян Васильевич поднимался чуть ли не затемно – в шестом часу. Помолясь и наскоро умывшись, шел в лавку или на склад, а завтракать возвращался домой часам к десяти и завтракал основательно. Сначала съедал тарелку вчерашних щей, закусывал пирогом и уж после пил несколько чашек чаю со сливками, со всякими выпечками Домны Платонны, на которые она была великая мастерица. Одно только расстраивало хлопотливую и усердную хозяйку: хоть сам и похваливал ее стряпню, а все ей казалось, что жует он изысканные кулинарные изделия, как корова траву. Да та поди еще поболе разбирает вкус! Сам и за завтраком был всегда мыслями далёко. Еще в молодые годы Домна Платонна подкладывала ему вместо надкусанного пирожка с вареньем ломоть хлеба с горчицей – не замечал! А она потом ночами плакала…
Но с годами смирилась и поняла, что сам ест, как говорила старая нянька Домны Платонны, «не в сладость, а в сытость».
Было и другое огорчение: за утренним чаем хозяин ничего не слышал, отвечал невпопад, а иной раз не замечал, есть кто за столом или он в одиночестве. Вечером еще можно было с ним развести семейную беседу, а утром – гиблое дело и бессмыслица.
И все же нынче она не выдержала.
– Демьян Васильевич! – сказала она, для верности убирая его чашку. – Ты уж не серчай на меня, а я скажу!
– Угу! – сказал хозяин и, только не нашарив перед собой посуду, будто проснулся. – Где чай-то?
– Погоди с чаем! Выслушай меня!
– Ну что? – сказал сам, равнодушно поглянув в окно и оживляясь, поскольку за окном во дворе происходило ежедневное Осипово утреннее учение. Справив домашние дела, казак «намахивал руку» – рубил шашкой лозу, которой приволакивал от реки целые возы.
Демьян Васильевич залюбовался, как Осип, стоя на деревянной колоде, рисует над головой и на все четыре стороны сверкающим клинком замысловатые восьмерки.
Вот он, потянувшись вверх, словно за улетающей в небо шашкой, выпрямился, неуловимым движением кисти изменил направление ее полета, и хищная сталь с коротким свистом отсекла половину тростинки, вставленной в расщеп кола. Рррраз – и тростинка слева ополовинилась, а отрубленная ее часть воткнулась тут же в песок.
Осип крутанул клинком над головой и, взяв линию полета чуть положе, стал отсекать с каждым ударом ровно по вершку.
– Эх! – восхищенно сказал хозяин. – Глянь, Домнушка, что делает! Что делает! Мастер!
Осип, срубив очередную порцию лозы, завертел шашку вокруг себя таким отчаянным «солнышком», что хозяин только крякнул:
– Вот кака музыка! Эдак он к себе не токмо пику, муху не подпустит! Мастер!
– Демьян Васильевич! – строго сказала хозяйка, закрывая окно занавеской. – Я стенке, что ли, говорю?!
– Бог с тобой, Домнушка, – завиноватился хозяин. – Я слушаю тебя, слушаю… – И попытался достать отодвинутую чашку.
– Нет уж ты меня выслушай! – сказала хозяйка, отодвигая чашку еще дальше. – Я про Аграфену!
– А что про Аграфену? Дите схоронили, вся недолга – царство ему небесное… Хотя ведь некрещеный, так что и поминать нечего. Не осязаемый чувствами звук…
– С ней-то самой что делать?
– А что с ней делать? – скрутил бороду хозяин. – Умела кошка сметану съесть, умей кошка и трепку снесть…
– Да жалость ли есть у тебя? Она извелась вся, не ест, не пьет!
– Вольно же ей было хвост на сторону держать!
– Ох, Демьян Васильич! Не судите, да не судимы будете!
– Это ты к чему? – сломал бровь хозяин.
– Ладно уж, – зардевшись, сказала хозяйка, – не об том речь! А только Аграфену нужно пожалеть…
– А я не жалею? Другой бы – моментом домой, при такой-то аттестации.
– Да ты в уме ли! Голубь! Да ведь ее братья насмерть забьют!
– То-то и оно! – сказал хозяин, доставая-таки чашку. – Потому пусть живет у нас!
– Не через то ты ее домой не отсылаешь, что жалеешь, – сказала хозяйка, которая видела мысли своего мужа насквозь. – Боишься, как бы братья, прознав про такое дело, отары свои не побросали да сюды с ружьями не явились!
Сам хотел было вскипеть, но одумался и сказал спокойно:
– Боюсь! Истинно боюсь! Мне, мать моя, шум лишний не надобен. И отвечу тебе, как перед иконою, не слукавлю: дите, конечно, жаль, но в том, что он помер, вижу Господню любовь ко мне, многогрешному. – Он перекрестился и с жадностью принялся прихлебывать с блюдца.
– Ну вот что! – решительно сказала хозяйка. – Смотри, Демьян! Как бы через твое легкомыслие чего похуже не вышло! А я тебе так скажу:
ежели ее и дале твои приказчики дразнить будут, так я возьму Настю, Аграфену да и уеду от тебя на богомолье, и живи тут как знаешь!
– Кто Аграфену дразнит?! – наливаясь кровью и сжав кулак, тихо спросил хозяин.
– Ох! Ох!.. – засмеялась хозяйка. – Закипел. Грому-то! Словами-то, ясно, никто, а так посматривают да промеж себя подхихикивают!
– Ну уж на чужой роток не накинешь платок! – сказал, моментально остывая, сам.
– Я к тому, что нужно нам ее судьбу устроить! Она у нас сыздетства, мы за нее перед Богом в ответе. Надоть ее замуж скореича!
Сам даже поперхнулся.
– Да ты в уме ли! Кто ж на ней теперя женится?
– На деньгах женится! – сказала хозяйка, принимаясь убирать со стола;
– Да ведь, женившись, он ее изведет!
– Дай в приданое поболе, вот и не изведет! Не скупись, об жизни человеческой речь идет… А пока надобно ее со двора долой! Чтобы твоя свора на нее глаз не пялила!
– Со двора-то со двора! – задумчиво пробормотал хозяин. – Это верно…
– Вот пускай с Осипом на мельницу прокатится! – подсказала Домна Платонна.
– И верно! – согласился хозяин. – Много ль у нас еще молоть?
– Поискать – найдется!
– Мааать… – проговорил хозяин задумчиво, поднимаясь и заглядывая поверх занавески во двор. – А ведь навроде она Осипу нравилась?
– Ты что удумал? – обомлела хозяйка. – Осипа не трогай! Не дам!
– Погоди! Не голоси! – сказал сам, любуясь, как во дворе Осип упражняется с крестовиной. На одном конце крестовины, воткнутой во втулку положенного на землю колеса, была мишень, на другом – колодезные цепи. Осип бил в мишень пикой – крестовина поворачивалась, и казак молниеносно пригибался, чтобы не схлопотать цепями по спине.
– Он, видишь ли ты, на войну собрался… А чего он там, на войне, не видал? Убьют, да и вся недолга!
– Так ведь, может, войны еще не будет! – сказала, садясь на табуретку, хозяйка.
– Будет не будет, ему там делать нечего. Он для хозяйства гожий! Уж как-нибудь извернусь… Тем боле что он последний в роду – атаманство в положение войдет! Главное его самого разговорить! А то ведь охотником уйдет!
– О Господи! – крестилась хозяйка.
– Так что женить – это первое дело. Укоренить при доме, значит!
– Да за что ж ему на Аграфене жениться? Он ведь вон какой парень достойный, нешто иных невест нет? Да ему такую партию составить можно…
– Эх мать… – сказал хозяин. – Не ведаешь ты его мозгов! Да ему сейчас хоть прынцессу, он нос отворотит… Как втемяшил себе – пойду болгар спасать, так и пойдет ведь… Да и не имеется у нас прынцессы-то под рукой!
– Так ведь он к Аграфене чувств не питает!
– А он и вообще ни к кому их не питает! Дите, пра слово! – сказал хозяин, отходя от окна и наливая себе еще чашку из остывшего самовара. – Вот тут нам Аграфена и надобна! На прынцессу-то он ноль внимания, а ее – пожалеет! Ежели ему ради каких-то болгар неведомых головы не жалко, тут-то он уж пожалеет непременно! А где жалость – там и чувства явятся. Вот и можно, сор из избы не вынося, людям счастье изделать! Домна Платонна заплакала.
– Ох, Демьян! – сказала она, утираясь фартуком, который носила более по моде, чем по необходимости, – в доме-то было три стряпухи. – Ох, Демьян! Не по душе мне все это! Сказать не могу, вывел ты все разумно…
– Ну и вот, – пройдясь по крашеным, будто литым половицам, сказал хозяин, – сама посуди:
парня от войны сбережем! Бабу за такого раскрасавца выдадим, коий ей и во сне не являлся. Средствами обеспечим, так что грех жаловаться!
– Так-то оно так, – не переставала плакать хозяйка. – Я умом все понимаю, а сердце кричит. Какой-то тут грех имеется, Демьян Васильич…
– Какой грех?! – сказал сам. – Наоборот – грех-то и прикроется!
– Ax, – сказала хозяйка, оправляя сбившуюся с тугого узла седеющих волос наколку. – Да за что ж Осипу, голубю чистому, в такой-то деготь…
– А ты хошь, чтоб этот деготь на твоих дочерей полился? А? – спросил, наклонясь к ней, муж. – Аль забыла – у нас ведь их трое! Окромя дочек, и на сыновей брызнет – не отмоешься!
– Да что ты такое говоришь-то? – испугалась хозяйка.
– Что говорю? А то, мать моя, грех-то в доме не удержишь! Непременно слухи поползут, да еще прибавят в сто раз: мол, дите – хозяйское либо хозяйского сына! А?
– Свят, свят, свят…
– Вот те и свят! Скореича надоть ее замуж определять! – вздохнул хозяин. – Вот ведь задала задачу босамыка шатущая!
– Не виновата она! – сказала хозяйка. – Это беда, а не грех!
– Хоть сказала, кто подсобил? – спросил хозяин. – Кто меня в убыток ввел?
– Молчит!
– Вот то-то и но! – сказал хозяин. – Тут на любого подумать можно.
– Да что ты, Демьян Васильевич, да рази я на кого думаю?
– А что ж? – петухом заходил сам. – Хозяин еще в гроб не смотрит… Еще жалеть тебя будут!
– Да что ты!.. Разве я на тебя подумать могу?
– А зря! – сказал хозяин, надевая картуз по казачьей привычке на бровь, ногой открывая дверь и, подбоченясь, выкатываясь на высокое крыльцо.
К счастью, Домна Платонна, уж на что- была женщина ума пронзительного, не видала, какие черти пляшут у него в глазах от радости, что заморочил жену.
– Аграфена что! – пробормотал себе под нос хозяин. – Да и разговоры – тьфу! Собака лает, а телега едет! Мне вот Осипа бы при себе удержать… Осипа.
С высокого крыльца, или балкона, поскольку был это второй деревянный этаж дома, а с крыльцом его роднило только то, что вела к нему лестница прямо поверх первого каменного этажа, – сразу в широкие сени и парадное зало, потому и звалось это крыльцо на казачий лад – высокое гульбище, – отсюда хозяин видел и весь двор, и улицу за высоким забором, и Осипа, который на заднем хозяйственном дворе учил Никиту рубить шашкой.
Васятка, стоя на сарае, лил из узкогорлого кувшина тонкой струйкой воду, а Никита рубил ее шашкой, стараясь, чтобы не было брызг.
– Угол! Правильный угол ищи! – учил его Осип. – Ежели под правильным углом клинок идет – силы много не надо… Ррраз… Подвысь… Ррраз… Еще… Ррраз! Резче! Резче!
Никита, разгоряченный, забрызганный, рубил азартно, не обращая внимания на вопли Васятки, который корчился с тяжелым кувшином на руках.
– Эй вы! Эй вы! Зараз кувшин брошу! Я писать хочу!
– Ровней лей! Ровней! – кричал, встряхивая чубом, Никита.
– Ой, счас описаюсь! – вопил Васятка.
– Осип! – позвал сам.
– Ай! – откликнулся казак.
– Закладывай быков, с Аграфеной на мельницу поедешь!
– Батяня, можно я! – завопил Васятка, торопливо расстегивая штаны и облегчаясь прямо с крыши.
– Я вот тебе сейчас жигану крапивой… Ты чего выставился! – цыкнул на него с притворной строгостью хозяин.
– Так ведь не стерпишь! – ответил простодушный Васятка. – Можно я на мельницу?
– Нет! – отрезал Демьян Васильевич, опускаясь во двор и степенно шествуя к воротам.
Какое-то нехорошее, тревожное предчувствие шевельнулось у него в душе, когда проходил он мимо Осипа, тащившего к возу воловье ярмо. Словно и он, как говорила хозяйка, подводил этого славного парня под грех.
Отгоняя эти предчувствия, хозяин хлопнул Осипа по каменной спине, как хлопают любимого коня, и поймал в ответ ласковую, развеселую улыбку.
– Истинно Иванушка-дурачок! – вздохнул хозяин, садясь на дрожки и натягивая вожжи.
– Пррими… – крикнул он зазевавшемуся конюху и бурей вылетел в распахнутые ворота.
2. Аграфена вышла на крыльцо, когда работники загрузили воз. Она стояла и молча смотрела, как мужики, надсаживаясь, закидывают тяжеленные тугие туши мешков, как перетягивают воз веревками. В прежнее время она непременно сунулась бы помогать, но теперь стояла недвижимо: закинув одну руку на высокий точеный столбик резного гульбища, а другой избоченясь. Что-то вызывающее, нехорошее было в изгибе ее тонкой фигуры, в туго обтягивающей грудь кофточке и черной атласной юбке.
– Вона, – сказал рябой Вавила. – Вырядилась… Ох и наломаесси ты ноне, Осип. С нее будет тебе помощи как с козла молока…
– Не переломлюсь, – ответил Осип. – Ну поедем, что ли, – позвал он женщину.
Аграфена, прищурив лихорадочно поблескивающие глаза, выждала, пока он подойдет ближе, и, чуть приподняв юбку рукою с зажатым кружевным платочком, картинно, будто барышня, сошла с высоких ступенек. Осип невольно протянул ей руку, и она, ничуть не смутившись, оперлась на нее. Рука Аграфены была ледяной.
– Ну! – сказала она, сверкнув цыганскими серьгами. – Подавай экипаж, господин приказный!
– Есть! – Осип приложил ладонь к фуражке и поддержал ее игру, хоть не нравились ему этот игривый, вызывающий тон и развязная походка.
Он подсадил женщину на облучок и, едва коснувшись ступицы, взлетел на воз.
– Ну, цоб цобе…
Волы потянули, тяжелая колымага качнулась.
– Похоже, всего седни не смолоть, – сказал Осип, чтобы что-то сказать. – Вона сколь навалили. И куды столько муки?