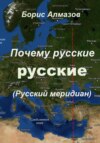Kitabı oku: «Дорога на Стамбул. Первая часть», sayfa 6
– Ну дак и заночуем, – бесовски улыбнувшись, ответила Аграфена. – Аль боисси со мной ночевать, Осип Ляксеев? Раскинем в степу шелков шатер. Ай? Боисси…
– Я только Бога боюсь, – резко ответил Осип.
Аграфена осеклась.
Обычно стоило Осипу выехать в степь, как у него сразу делалось хорошее настроение. Он без песни-то и ехать не мог – так широко распахивалась душа навстречу степному простору. Но сейчас казаку было не до песен.
«Чего она передо мной-то выламывается! – с горечью подумал он об Аграфене. – Добро бы я ферт какой был, а то ведь всем сердцем понимаю ее и сочувствую, а она вон каки вавилоны выводит да куражится…»
– Другой вы стали, Осип Ляксеич, – прежним тихим голосом сказала Аграфена. – Повзрослели, вспротив прежнего…
«Как не повзрослеть! – усмехнулся про себя Осип. – В службу шел на двадцать первом году, а теперь вот скоро двадцать шесть стукнет».
– Прежде вы много трепетнее на жизнь глядели, – вела свое Аграфена.
– Это как же, значит, трепетнее? – переспросил Осип.
– Да бывалочи чуть что, так и скраснеетесь, так и вострепещете от радости ли, от грусти, а теперь много молчаливее стали.
– Служба шкуру задубила. Там, брат, вострепещешь – мигом по мордасам насуют…
– И вас били?
– Перепадало.
– Да за что же?
– Эх, Груня! – сказал Осип. – Служивого бьют не за что, а потому что… Можно вдарить – вот и бьют. Бывает, конечно, что за дело, но больше так – от низости! Хрясь-хрясь по мордасам, а ты стоишь, моргаешь… Пока сам не окрысишься! Ну а как в ответ зубы-то покажешь, так и отступятся… Стало быть, всё! Довели до крайности – дале опасно – ответ даст!
– И все же мужчинам не в пример как легче, – сказала, вздохнув, Аграфена.
– Кто это мерял, кому легче… У вас свое, у нас свое…
Они долго ехали под мерное поскрипывание воза. Теплый, влажный, по-осеннему ласковый ветер гладил их лица. И оттого, наверно, Осип успокоился. Давешнее раздражение его на Аграфену прошло.
– Так-то вот подумать, – сказал он. – Кругом благодать, а люди меж собой собачатся. Зачем? Живи да радуйся – нет, норовят дружка дружку пихать да неволить. На что?
– Потому одни слабее, а другие нахальнее… А то и злей! Злым хорошо. А слабым плохо. Кабы все по-другому, я бы злой стала!
– Ну и кому через то хуже было бы? – засмеялся Осип. – Ты, Грунь, пра слово, как дите:
«Нехай моей бабке будет хуже, что у меня отмерзнут ухи!»
– А бы всем доказала! Всем! – вдруг горячо заговорила Аграфена. – Бывалочи, как меня Домна-то Платонна по щекам, по щекам, за всяку погрешность, девчонку совсем. Приказчики щиплют, и ни от кого-то ласки нет… Вот уж я гнев-то копила…
– Ге… А я-то и не замечал, – сказал Осип.
– А много ль ты вообще кругом себя замечал! – засмеялась Аграфена. – Все книжечки почитывал да в небеса глядел… А я, бывало, все думаю: ну хоть бы кто пожалел! Может, хоть бы Осип глянул…
– Эх, односумка! – сказал Осип. – Этот голос мне знакомый… Эдак и я мыслями-то располагал… Что вот, мол, Господи, неужто на всем белом свете родной души не сыщется, неужто так никому желанным-то и не станешь… И таково это тоскливо делается… Я ведь, Груня, на службе-то в первый год чуть того… до греха чуть не дошел. Так, знашь, меня служба задавила: уж на что у Демьяна Васильича не забалуешься, а на службе много тяжелей. Все-то под команду, все-то под сигнал… И с утра до ночи как машина…
Осип перестал понукать волов, потому как тычь их погонычем не тычь, а быстрее они не пойдут…
– Ну и как же? – заинтересованно спросила Аграфена. Она скинула платок, и густые черные волосы двумя крылами свалились ей на щеки.
– Да глянул – другим-то много хуже моего. Одному помог, другому подсобил… Глядь, своего-то горя и не видно. У нас ведь были, которы руки на себя накладывали. Особливо неженатые, у кого детишков нет…
– Вон, значит, как спасся, – задумчиво сказала женщина. – А я: день мой, час мой! Выказала слабину… Бог-то и наказал.
– Да брось ты, Грунь! Ты за слабину расплатилася. Я так располагаю, что боле на тебе греха нет.
– Эх, Осип Ляксеич… Добрая у тебя душа, – вздохнула казачка. – А как ты думать, еже один человек через другого погибает да на грех идет, тому тоже воздаяние следует…
– Это ты туманно говоришь, – почесал висок Осип. – Однако сказано в Писании: горе тому, через кого грех является…
– Это правильно! – сказала Аграфена, глядя куда-то перед собой, в одну ей виденную точку. – Бог-то, он правду видит!
– Брось ты, Грунь! – сказал Осип. – Молодая! Вон кака раскрасавица, я на службу уходил, ты как цеплок лядащий была, а счас вон кака роза образовалася, цветок лазоревый, пра слово… А тужишь…
– Цветок… – вздохнула Аграфена. – А кому теперь тот цветок нужен?
– Найдется и твоя судьба! – уверенно сказал Осип. – А грех-то мало что… Тут еще обмозговать надо, чей он, грех-то?
– А вот, сказать примерно, – улыбнулась озорно Аграфена. – Вот ты, Осип Ляксеев, женился б на мне… Ай?
– А как же! – засмеялся Осип. И в ту же минуту подумал, что не следовало бы смеяться… Что, может, наоборот, нужно было не на шутку сводить, а просто и серьезно объяснить.
– Ara! – сказала, вздохнув, Аграфена. – То-то и оно, что не женился бы! – Она вдруг сняла с головы казака фуражку и запустила тонкие хрупкие пальцы в его густые волосы. – А ведь ты меня целовал, Осенька! Ай не помнишь?
Осип ошарашенно молчал. Он действительно не помнил такого.
– Мы с гор катались, на розвальнях, вот ты меня и поцеловал. Первый, стало быть, в жизни моей разок!
«Убей Бог, не помню!» – смятенно подумал казак.
– Неуж забыл? – как-то жалобно-грустно спросила женщина.
– Чего про то вспоминать… – начал Осип.
– Забыл… – протянула Аграфена. – Вот ведь как… А я по ею пору помню… Не умеешь ты врать, господин приказной! Давай, что ли, песню сыграем, а то вовсе расстроимся! – решительно переменила она тему. И низким бабьим голосом запела: – «Вспротив батина крылечка стоял тополь молодой…»
И Осип, радуясь такому окончанию разговора, перехватил мелодию, повел первым голосом: «Как я вспомню этот тополь – сердце рвется из груди!»
«И когда ж это я ее целовал? – думал он под переливы песни, украдкой поглядывая на раскрасневшуюся черноглазую красавицу Аграфену. – Навовсе бабочка от тоски извелась… Ничего. И это горе стерпится».
Но так ему стало жаль этой молодой жизни, что бредовая мысль явилась в его чубатую голову: «А не жениться ли на ней? Оба мы с ней как два клубка перекати-поля, что несет по степи колючий зимний ветер. А вот прибил бы он нас друг к другу, может, мы бы и укоренились?»
Где было простодушному казаку подумать, что именно этого ожидал от него тароватый Демьян Васильевич. Именно такое развитие событий предвидел его многоопытный разум. Однако не все в жизни вершится по разуму.
3. На мельнице заметно убавилось помольщиков. Потому и Осипу пришлось сразу разгружаться и готовить мешки к подъему наверх, в засыпку. Он поднялся наверх и оттуда, с высоты третьего этажа, глянул на по-осеннему зазеленевшую степь, на голубые дали за мягкими отлогами холмов. Он увидел группу всадников и борзых, что неторопливо ехали по обочине дороги, ведя свивающихся в пружины поджарых породистых собак.
– Ктой-то? – спросил он мельника. Старик глянул из-под руки.
– Навроде Ястребовы, поехали зайцев травить… Ну точно, Ястребовы!
Охотники спустились к мельничному пруду. Кони жадно потянулись к воде. Кавалькаду нагнала коляска. Из нее достали вино, закуски, и нарядные офицеры с дамами в амазонках уселись вокруг расстеленной денщиками скатерти, уставленной снедью и разноцветными бутылками.
– Вона! – зло сказал рабочий, весь засыпанный мукой, с рогожным кулем на голове. – Притомились господа охотники! Беса-то тешить.
– Ихнее дело такое… – неопределенно ответил мельник.
– То-то и оно! – сплюнул в окошко работяга. Осип спустился за очередной вязкой мешков. Аграфена стояла, прислонившись к гудящей стене мельницы, и долгим, тягучим взглядом, которого прежде у нее Осип никогда не замечал, смотрела на противоположный берег пруда, где шумела компания и хлопали пробки.
– А что? – сказала она, не поворачивая головы. – А что, Осенька, ведь, я чаю, ты бы меня и полюбить мог!
– Может быть! – дрогнувшим голосом ответил казак. – Вот Демьян-то Васильич обрадовался бы…
– А ему что? – не понял Осип.
– Так вот не будет того! Не будет того вовеки! – сказала женщина. И вдруг сильной рукой обхватила Осипа и крепко поцеловала его в губы. – Еще и тебя погубить… Осип уронил фуражку.
– Грунь! – крикнул он вдогон женщине, что неспешно пошла за угол мельницы. – Ты куды?
– Эх ты! – засмеялась казачка. – На службе, что ль, «кудыкать» научился? Окацапился!
Осип смутился: по казачьим обычаям, было верхом неприличия и даже дурной приметой спрашивать, куда человек идет.
– Сцедиться… Подпирает меня…
И, волоча кружевной платок по траве, она пошла дальше.
Осип не сразу понял, что речь идет о молоке, которое теперь ребенку ненадобно.
«Вот ведь! – подумал он сокрушенно. – Дитя нет, а прокорм ему идет. Вот ведь как…»
Он взвалил на себя два мешка и поволок цеплять к зажиму. Потом еще два и еще два…
Сверху уже кричали:
– Ну чё валандаешься… Засыпка пустая! Подавай быстрее!
И он торопился, обливаясь потом и надсаживаясь, поднимал будто свинцом налитые пятерики, когда чей-то истошный крик: «Баба утопла!» – заставил его выронить веревку, которой он вязал горловины мешков.
– Аграфена! – не своим, диким голосом крикнул казак и метнулся к пруду.
Ее тело вытащили часа через два, стыдно зацепив баграми фасонную юбку.
Осип, не помня себя, прыгнул в воду и выволок тяжелое скользкое тело на прибрежную вытоптанную траву
Откачивать утопленницу было бесполезно.
– Да как же она так… Пьяная, что ли? – гомонили в толпе зевак.
– Нет, братцы мои! – отвечали другие. – Она сама себе решение навела. Зашла вот тута с бережка да тихонько эдак и в омут… Мой мальчонка еще удивился, через чего она в воду одетая полезла…
Озабоченный дежурный деловито писал протокол. Помощник наметом поскакал в станицу за фельдшером. Красноносый фельдшер констатировал смерть. Тело завернули в холстину и повезли в станицу на реквизированной телеге на вскрытие. Осип, выпросив коня, погнал в Жулановку, за хозяином…
Глава пятая.Георгиевский монастырь 10 октября 1876 г
1. Теперь уж скандал разразился с грозовой силой. Слухи, которые тишком ползли по слободе, теперь разлились половодьем, наполнились подробностями и подмывали годами возводимый Демьяном Васильевичем авторитет. Перед домом Калмыкова целыми днями толпился народ. Наскоро посовещавшись с Никодимом и Осипом, хозяин послал за Аграфениными братьями. Они явились на следующий день: чернобородые, пропахшие кизячным дымом и тяжким духом овечьего закута. Старший поднялся в дом для тяжелого разговора с хозяином, а трое остались в тачанке, и Осип понял: достаточно малой искры, подозрения, как пойдет стрельба и польется кровь.
Потому без спросу поднялся он в кабинет Демьяна Васильевича, где бледный хозяин, разводя руками, что-то пытался разъяснить чугунно молчащему черному степняку.
Осип, то ли от волнения, то ли оттого, что Калмыков и сам толком ничего объяснить не мог, ничего не понял в его сбивчивой взволнованной речи. И, понимая, что степняк не верит ни единому хозяйскому слову, тронул его за рукав.
– Зови братьев!
– А ты кто таков? – лютым шепотом спросил его старший Аграфенин брат.
Осип выдержал его бешеный взгляд и повторил:
– Зови!
Брат, словно бы в бреду, поискал глазами окно. Демьян Васильевич кинулся открывать форточку.
– Хлопцы! – крикнул старший. – Ходи сюды.
– Как итить? – спросил, не поднимаясь, один из братьев.
И тогда Осип оттолкнул старшего и твердо приказал:
– Миром идите! Здесь беда общая! Степняки, сбросив бурки, громко топоча сапогами, вошли в кабинет и заполнили его весь своими широкоплечими фигурами. Осип увидел трясущееся лицо Калмыкова и, откашлявшись, сказал:
– Судите – воля ваша! Не сберегли Аграфену! Но греха на сем доме и живущих в нем нет!
Медленно, понимая, что слова его не сразу доходят в эти кудлатые головы, наполненные гулом горя, он рассказал, как жила Аграфена, не приукрашивая, поскольку любое неверное слово сразу породило бы в них недоверие, описал ее труды, ее одиночество и ее долю.
– Каково одному в миру жить, я оченно даже хорошо понимаю! – сказал он с дрожью в голосе. – Тут мы с покойницей одной доли… Но то судьба, а не умысел хозяйский! Демьян Васильич – нам не просто старший, а отец родной! И грешить на него – грешить против. Господа!
И только тут старший из братьев глянул на Оси-па без ненависти.
– Растолкуй ты нам, как же это? – спросил он вдруг жалостным голосом. – Мать помирала, наказывала сестру хранить… А что мы в степи… Вот мы ее в люди… В хорошую семью! ан вон как обернулось…
Не скрывая ничего из того, что было известно ему самому, Осип рассказал и про ребенка, и про последний разговор с погибшей.
Старший брат качался из стороны в сторону, схватив руками голову, и черная тень его металась по стене, к которой, прижавшись спинами, неподвижно сидели потрясенные братья!
– Через то ребенок умер, что родился до срока! – сказал Осип.
– Кака нам разница! Господи… – простонал Аграфенин брат.
– Есть таковая! – сказал Осип. – Ну-ка отсчитай шесть с половиной месяцев да прикинь, где об ту пору Аграфена была?
– У нас… – прошептал один из братьев. – Слышь, Ерема!
– Ну, парень, это уж ты хватил, – подымаясь во весь рост, с каким-то облегчением сказал старший. – У нас-то она при глазах была. Она у нас, чай, не в лесу дремучем, в семьях жила… Я те вот что скажу, мил человек… Загубили девку…
– Стый, Еремей! – сказал вдруг один из братьев. – Стый! А на кордон-то ездили… Она с нами выпросилась. Неделю ведь с нами в степи жила. Весь курень как стеклышко вымыла.
– Ну дак что? Ведь при нас жила.
– А попомни-ка хорошенько, Еремей… – сказал все тот же брат.
– Господи! – ахнул старший и, припоминая то время, рванул, сыпанув пуговками, ворот.
– А воротились через два дни… – безжалостно выговаривал один из братьев. – Овса-то нет? Спомни! Куды овес делся? Так-то уж сестре радовались, в разум тогда нам не вошло…
Словно надломившись, примолкли братья, уронили чубатые головы. Демьян Васильевич трясущейся рукой крестил под столом живот.
– Иде она проживала?
Грохоча сапогами, прошли братья в Аграфенину каморку по гулкому, застывшему в тишине и словно бы пустому дому. Стали в двери, плотно сбившись плечами.
Осип заглянул через их плечи в чистенькое убогое жилье, где всего и стояла узкая кровать да комод. Он видел, как из-за комода выглядывает крошечный детский сапожок.
– Вот он где! – прошептал казак невольно. – Сыскался.
– Что? – повернувшись к нему, по-волчьи спросил старший.
– Вон… – указал глазами Осип. – Я на зубок дарил. Когда малютку обряжали, сыскать не могли…
Старший брат неуклюже присел. Выскреб огромным коричневым пальцем крохотную вещицу, зажал в кулаке.
– Ступайте все! – приказал он. Мужчины покорно оставили его одного. И неслышно притворили дверь.
Он вышел через час. Словно бы сразу состарившись на десяток лет. Кинул в тачанку узел с Аграфениным приданым.
– Где схоронили-то?
Демьян Васильевич затопотал, засуетился. Зачем-то вскочил в тачанку вместе с Осипом. И они поехали в сторону погоста.
– Вот, – сказал Калмыков, торопливо передавая старшему брату тряпицу. – Тут деньги ее, что на сохранении у меня были, и последнее жалованье…
– В церковь поминать отдайте, – не оборачиваясь, сказал брат.
Осип тронул его за обмякшее плечо:
– Нельзя поминать-то… Не станет священник служить.
– Как это не станет! – высоким голосом выкрикнул старший. – Под ружьем небось станет…
– Бога ружьем не напугаешь! – твердо сказал Осип. – Еще грех умножать будете?
– Да как жа?.. – по-младенчески затряс подбородком уже совсем не страшный, а беспомощный старший брат – второй отец.
– Хлопотать буду? – пообещал Осип. – До митрополита дойду! Нет ее вины! Сердцем чувствую, нет!
– Порадей, голубчик… – попросил старший. – Что ж это ей и на белом свете судьбы не было, и там в геенне огненной гореть?
– Обещаю!
За погостом, в степи они отыскали уже оплавленный дождями холмик. Собрали сухой травы, брызнули сверху дегтем, запалили огонь. Старший брат принес узел с вещами и торопливо покидал их в пламя.
Огонь пыхнул и поглотил материю, еще хранившую тепло, запах и соль слез несчастной Аграфены.
Засапожными ножами братья срезали по пряди волос и кинули в огонь. Красный язык пламени взвился и погас на стынущем невесомом пепле.
Один из братьев было начал: «Со святыми упокой…» – но на первом же слове осекся.
Братья кинулись друг к другу, стукнулись лбами и, сцепившись в единый клубок, застыли над костром. Только стон-всхлип иногда раздавался, но неизвестно, кому из четырех он принадлежал. Осип не мигая смотрел на них, не в силах оторвать взгляд от чужой муки. Ослабевшие, обмякшие, братья повалились в тачанку.
– Осип, – позвал старший. – Ты ведь Осип? Я сразу тебя признал. Аграфена нам про тебя сказывала… – Он достал из-за пазухи смятый комочек и вложил его в руку казака.
– Дай тебе Бог счастья… – Он обнял Осипа, ткнулся холодными губами в его плечо.
Братья поклонились Демьяну Васильевичу. И со стоном и грохотом погнали тачанку в степь…
– Слава тебе Господи! Пронесло, – бормотал Калмыков. – У меня душа обмерла. В тачанке-то ружья. Ох, Осип, Осип… Не зря, значит, я тебя на руках носил… Отвел ты ноне погибель от моей головы. Ох, Осип, Осип…
Осип разжал кулак и увидел смятый невесомый сапожок.
2. Верный слову Зеленов собрался к митрополиту. Напрасно отговаривал его Демьян Васильевич, доказывая, что церковные власти никогда не разрешат отпевать самоубийцу, напрасно объяснял, что Осипа к митрополиту просто не допустят. Казак, набычившись, молчал, уставив неподвижный взгляд своих синих глаз куда-то мимо лица Калмыкова. Наконец хозяин плюнул и согласился его отпустить! Единственное, в чем удалось ему убедить упрямого приемыша, что ехать к митрополиту, не заручившись поддержкой какого-нибудь влиятельного церковного лица, – бесполезно.
Кряхтя и поругиваясь в бороду, Демьян Васильевич написал письмо к настоятелю Георгиевского монастыря.
– В собственные руки! – наставлял он казака, заклеивая конверт и глядя, как тот зашивает его в подкладку пиджака. – И чтобы, окромя адресата, ни одна душа про то, что в нем писано, не ведала.
– Мене чем с головой – письма не отдам! – пообещал казак.
– Ииих! – ткнул его в лоб перстами хозяин. – Голова-то хороша, да дураку досталась!
– Коли так, ехали б сами! – без улыбки на хозяйскую ласку ответил казак.
– Ох надо бы, надо бы повидать настоятеля! – непритворно вздохнул Калмыков. – Сколь годов не видались. Да грехи не пускают – вишь, что кругом творится. Не знаешь, что найдешь, что потеряешь… Ноне можно и миллион за год нажить, и с сумой пойти…
С Осипом поехал и Никита, которого отпустили, почитая за благо спровадить из слободы подальше, пока не утихнут сплетни, справедливо полагая, что с Осипом Никита не забалует. Калмыков самолично купил им билеты первого класса на пароход. Придирчиво осмотрел их новые тесные сюртуки и непривычные брюки со штрипками и остался доволен.
– Барчуки.
Демьян Васильевич провожал их до того, как убрали сходни, посмотрел, как они прошли на верхнюю палубу, уселись за столик и услужливый вертлявый официант тут же раскупорил для них бутылку с лимонадом, – прохладительные напитки входили в стоимость билета.
Он помахал на прощание картузом, и Осип с Никитою долго видели его пылящие по степному тракту дрожки.
Пароход «Есаул» совершал регулярные рейсы по всему Дону от Азовского моря почти до верховьев, хотя там плавать ему было уже и рискованно из-за илистого мелководья.
Пароходом в относительной прохладе и комфорте предпочитала ездить чистая публика. И Осип с Никитой поначалу робели, сидя за столиком на палубе и аккуратно прихлебывая шипучий лимонад.
Но народ на палубе, несмотря на свое относительно высокое положение, был южный – громогласный: разговоры грохотали по всей палубе и были, как правило, общими. Во всяком случае, любого, пусть даже совершенно незнакомого человека, выслушивали со вниманием.
Поскольку по берегам – высокому в проплешинах меловых откосов правому и топкому, поросшему ивняком левому – тянулись хутора и станицы, а на деревянных пристанях неизменно преобладал бронзоволицый, загорелый до сизого отлива чубатый народ в широких лампасах, разговоры, естественно, шли на казачьи темы…
Особенно ораторствовал пышнотелый, потеющий помощник прокурора в чесучовом белом пиджаке и соломенной широкополой шляпе.
– Казаки! – говорил он, промокая лоб широким клетчатым платком. – Я не знаю людей большей косности… Это полнейшая отсталость во всем, беспечность какая-то солдатская, невежество… – Он наливал себе пива из запотевшей бутылки и, звучно обсасывая алую рачью клешню, продолжал: – Помилуйте, казак даже садов не разводит, а садит только виноград! Спросите его, почему он не садит фруктовых деревьев? Он вам скажет:
«Да-а, ведь за ними ходить надо!» Насмотрелся я на этих господ! Третий год здесь живу, слава Богу! По своему положению я знаком коротко с видами и количеством преступлений казаков. Кража – вот альфа и омега казацкого существования. Он пройти нигде не может, чтобы не стянуть что-нибудь… Вы знаете, почему их не допускают служить на железные дороги? Крадут! Его даже близко нельзя подпускать к дороге: или винт какой стянет, или рельс отворотит… Да что такое, в сущности, казак? – говорил он, махая пухлой рукой с пузатым обручальным кольцом на своих собеседников: учителя и широкоплечего казака в офицерской фуражке, с длинным шрамом через всю левую щеку. Шрам был недавний, красный. – Казак, – разглагольствовал судейский, – это своего рода рантье! У него от двадцати до тридцати десятин земли, он привезет рабочих на свое поле, наварит им каши – только его и обязанностей. А сам он ничего, в сущности, не делает… Воинская повинность? Так нынче все отбывают воинскую повинность! Не одни казаки!
Осип, которому было не впервой слушать подобные разговоры, посмеиваясь смотрел на Никиту, который то бледнел, то покрывался пятнами и нервно теребил скатерть.
– Что, Никита, купоросишься? – положил он руку на плечо товарища. – Это еще пустяки, как нас величают, я вот с хозяином поездил, всего понаслушался…
Никита нервно сбросил Осипову руку с плеча.
– Вы меня извините! – горячо заговорил офицер со шрамом. – Я сам казак и, безусловно, не могу судить беспристрастно, однако ж давайте опираться не на мнения досужих людей, а на факты… Двадцать—тридцать десятин давно отошли в область преданий! Здесь вот, например, где мы едем, у верховых казаков надела более десяти десятин нет, а по Хопру есть, говорят, станицы, где пай – пять десятин. А вы говорите – рантье! Хорош рантье на пяти десятинах… И вот за эти пять десятин ваш рантье обязан службою в течение пятнадцати лет. Чтобы выступить в полк, он должен единовременно затратить не менее трехсот рублей – на коня и на всю справу, потому что все до последней нитки, от чехла на фуражку до подковы, у него не казенное, а собственное, купленное! Триста рублей и для меня, и для вас значительные деньги, а возьмите казака с его маленьким хозяйством, подверженным всем несчастным случайностям – неурожаи, падеж скота и прочее… – для него это сумма умопомрачительная… Этот рантье не может отлучиться из станицы более чем на месяц, частная служба для него закрыта, потому что постоянные сборы, смотры, пробные мобилизации отвлекают его от дела… Казак затрачивает только на срочную службу более тысячи ста рублей! Это за пять десятин, где, согласитесь, прокормить семью непросто! Что касается краж, то это те дела, которыми казачьи станичные круги гнушаются и потому передают судить их вам.. – Офицер очень горячился, дергал головой, словно высвобождая шею из тугого воротника мундира, которого, судя по увечью, ему более не носить. – А относительно железных дорог ваше рассуждение по меньшей мере удивительно. Как человеку судейскому, вам следовало бы знать, что есть специальные циркуляры военного министерства, запрещающие брать казаков на государственную службу… Вот вам и странное сословие! Это странное сословие постоянно, в каждую данную минуту находится в полной боевой готовности и через неделю какую-нибудь будет после объявления войны проливать кровь за отечество. Я не знаю, есть ли такое место в Европе или в большей части Азии, где бы не было казачьих могил… Вот это, – офицер ткнул себя беспалой рукой в шрам, – из Афганистана! А вы хоть, милостивый государь, слышали, что мы там воюем?
– Пойдем отсюда! – сказал Осипу Никита. – Мочи моей нет на эту судейскую рожу глядеть, так бы и хлестнул нагайкой!
– Да будя тебе, – уговаривал его Осип, уводя подальше от скандала. И, усадив в тени на скамеечку, вдруг неожиданно для себя сказал: – Ведь это же государевы люди! Мы их, стало быть, призваны защищать, не щадя живота своего… А есть ли у тебя, Никиток, охота за энтого судейского голову класть?
– У меня есть охота рвануть бомбой весь этот пароход к чертовой матери! – двинул по перилам кулаком Никита. – Чтоб куда куски! Куда довески!
И негромкий смех прервал его слова. Казаки вздрогнули и оглянулись. На соседней скамейке, укрыв лицо раскрытой книгой, дремал человек в студенческой тужурке и штанах с голубым кантом, заправленных в сапоги.
Осип узнал и этот смех, и эти сапоги. Но человек не принял книги с лица. Казалось, он спал и смеялся во сне.
3. Они сошли с парохода на пристани, расположенной на низком, утонувшем в песках берегу, уже в сумерках. И когда пароход под выкрики матросов: «Чалку отдал!» – тяжко задышав, отвалил от резного дебаркадера, правый, поросший темным лесом, крутой и дикий берег открылся им во всем величии. Белая стена монастыря то там то здесь посверкивала из зарослей, да закатное солнце плясало на златоверхой колокольне.
Была в этой картине какая-то нездешняя, не степная красота, словно сюда, на берега Северского Донца, переселился кусочек коренной поволжской России, с ее сырыми тенистыми лесами и белокаменными храмами.
Увязая в песке, Никита и Осип добрались до парома, и молчаливый чернобородый монах, не проронивший за весь перевоз ни слова, не торопясь переправил их на монастырский берег. Здесь они сразу погрузились в сумрак и прохладу, словно переехали в иной, как бы и вовсе не земной мир. После степной сухой жары тут дышалось совсем по-другому, легко и полно.
Их поселили в монастырской гостинице, что примыкала прямо к стене монастыря, в чистой и как бы навеки выстуженной келье.
Деловитый и приветливый послушник, с ключами на поясе, расспросил их, зачем приехали, и объяснил, что теперь настоятеля в монастыре нет, но вскорости должен прибыть.
Осип с наслаждением умылся, попил чаю с домашними припасами и растянулся на хрустящих белоснежных простынях. От беленых стен кельи, от высокого сводчатого потолка веяло чистотой, прохладой и покоем. «Господи! – подумал казак. – Жить бы так в тишине, не зная суеты и забот… Трудиться, читать книги, молиться Богу и вести задушевные беседы с умными монахами…» Он заснул быстро и как-то незаметно, словно нырнул в ласкающую прохладой речную воду.
Далеко за полночь Никита, босой и всклокоченный, с трясущимся лицом, разбудил его:
– Осип!.. Слышь, Осип! Что это такое?..
Откуда-то, не то из-за узких зарешеченных окон, не то от самих стен, слышались истеричные острые вскрики и вопли, заглушаемые монотонным, ровным и мрачным пением низких голосов.
Торопливо одевшись, парни выскочили в пустой гостиничный коридор, пробежали его, никого не встретив, вылетели на широкий монастырский двор.
Мрак душной ночи освещался трепещущим красным светом из раскрытых дверей собора. Через весь двор к нему плыли слабые колеблющиеся огоньки свечей. Напрягая зрение, Осип увидел монахов, медленно и мерно идущих из келий в храм и как бы поглощаемых раскрытым зевом его врат.
– Что это? – Осип схватил за рукав пробегавшего мимо послушника.
– Ночная молитва, – привычно объяснил тот. – Вы нешто в монастыре первый раз? Завсегда так-то делается.
– Зачем?
– Так ведь человек не знает своего часа последнего – днем ли он пребудет, ночью ли. Потому и надлежит быть вечно в готовности предстать пред Всевышним… Сие подвиг монашеский укрепляет, пробуждает от снов прельстительных, ограждает от искушений дьявола.
– А кто кричит?
– Это?.. Отец Ипполит бесноватых отчитывает. Ноне отец настоятель, ну, игумен наш, много страждущих привез…
– Приехал, значит? – обрадованно спросил еще не совсем оправившийся от страха Никита.
– Часа два назад.
Казаки, сторонясь медленно двигавшихся монахов в опущенных капюшонах с белеющими крестами на лбах и на плечах, прошли через двор.
Монахи молились. Их лица, бледные в свете луны, были наполовину закрыты надвинутыми на глаза башлыками и казались лицами мертвецов, если бы не беззвучно шевелящиеся губы.
Никита и Осип вошли в собор. И там увидели черные фигуры, неподвижно стоящие далеко друг от друга, иногда взмахивающие правой рукою, творящей крестное знамение…
Молящиеся были сосредоточены, и казаки проходили мимо них, словно мимо деревьев, которым нет дела до живности, бегающей и суетящейся у их корней.
Неподалеку от собора в наполовину врытой в землю хибарке слышались дикие, истеричные вскрики.
Осип и Никита заглянули в маленькое оконце почти у самой земли. Они увидели подобие церкви, с крошечным алтарем, какой обыкновенно возят в походе за полком, сухонького старичка в облачении священника и тонких очках. Он что-то читал, неся книгу в вытянутой правой руке, а левой непрерывно кадя и медленно двигаясь мимо распластанной на полу фигуры, которую держали два монаха.
Осип разглядел, что это была женщина. Она дико кричала и выгибалась, стараясь вырваться из рук монахов. А старец, словно бы не замечая ее беснований, продолжал ходить вокруг распростертого тела, иногда откладывая книгу и кропя лежащую святой водой. Казак увидел и старика со старухой, в каких-то похожих на украинские одеждах, что, обреченно опустив руки, стояли в углу землянки.
Женщина билась все реже, хохот и вскрики ее становились все тише. Наконец она совсем затихла.
Старец что-то сказал монахам, они осторожно подняли больную и вынесли в соседнюю комнату, куда заторопились и ее родители. А в землянку уже тащили упирающуюся и дико закидывающую голову с распущенными черными волосами другую бесноватую. И снова старец, покачиваясь, мерно стал обходить ее по одному ему видимому кругу…
Осип и Никита вернулись в свой номер, но сон отлетел, и до утра им слышались тихое пение, и вскрики больных, да деловитый стук сапог послушников по мощенному булыжником монастырскому двору.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.