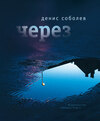Kitabı oku: «Воскрешение», sayfa 7
– На деревню к дедушке, – хмыкнула мама, но папа не засмеялся, а только улыбнулся краем рта, как будто с усилием, и быстро отвернулся.
– Пора, – ответил он, чуть подумав, – пора и им взрослеть.
В Москву обычно, хотя и не всегда, ездили на проходящем из Хельсинки; он останавливался сравнительно недалеко от дома, в Ручьях. Минусом было то, что проходил он поздно, около часу ночи, и, пока они ждали поезда, Арина начинала, как папа это называл, хлопать глазами; на этот раз, не раздеваясь, только сбросив тапки, она свернулась калачиком на диване в большой комнате, да так и уснула. Зато поездка на проходящем избавляла их от толкотни Московского вокзала, криков носильщиков с огромными железными телегами, потных и почему-то вечно опаздывающих, проталкивающихся через толпу командированных и мешочников. Да и в Москву хельсинкский поезд приходил не в рассветном холоде, а поздним утром; отмытая Москва светилась и встречала их теплом своего густого лета.
Родители положили их вещи под сиденье, коротко переговорили с проводницей, кажется в третий раз повторили, что дверь купе нужно закрыть изнутри, что Митя должен спать на верхней полке, а Арина на нижней, и уже из полутьмы платформы еще раз им помахали. Ей показалось, что мама заметно тревожится. Соседей по купе у них не было; они заперли дверь и начали изучать финские каталоги, как обычно обнаружившиеся в сеточках над полками. Но Арине быстро стало скучно; в журналах были в основном какие-то женщины, похожие на эстонских продавщиц из столовых с надписью «Сёёкла», и реклама унитазов с ковриками из длинной шерсти неестественных цветов. Зато в самом купе, несмотря на ночной час, все еще чуть пахло разогретым пластиком коричневатых стен. Пока Митя рассматривал предполагаемых продавщиц, Арина быстро, едва ли не одним прыжком, забралась на верхнюю полку и начала раскатывать матрас.
– Ты куда? – возмущенно закричал Митя, с некоторым опозданием сообразив, что она не просто так решила попрыгать. Видимо, подействовал поздний час, хотя особой сообразительностью он никогда не отличался.
– Спать, – ответила она; главным сейчас было не позволить втянуть себя в спор, так что Арина почти мгновенно заправила простыню под матрас и взялась за наволочку и подушку.
– Тебе велели спать внизу.
– Это тебе велели спать наверху. Ну так и спи напротив.
– Это не наши места.
Она была довольна еще и тем, что ей удалось захватить место по ходу поезда.
– А кто будет спать на вещах?
– Дверь-то закрыта. Там еще одна щеколда. Можешь закрыть и ее.
Щеколду Митя закрыл, но с недовольным ворчаньем остался спать внизу. А вот уснул он почти сразу. Арина же лежала на верхней полке и долго смотрела на проплывающие в окне железнодорожные столбы с тусклым желтым светом, на прерывающуюся стену придорожной зелени и дальние поселки. В ночной темноте деревни и городки казались густыми черными массивами, лишь случайно помеченными редкими огоньками. Поезд равномерно подрагивал ровно и спокойно, лишь иногда более отчетливо дергался на стрелках и снова успокаивался. Она вспомнила, как когда-то они раскладывали по квартире железную дорогу; на самом деле они и сейчас иногда это делали, вызывая отчетливое мамино раздражение, но все же теперь они собирали железную дорогу гораздо реже. Ночь была всюду – в темном купе и на дальних озерах, вспыхивающих скользящими серебряными отблесками, и даже из-за закрытого окна купе эта ночь казалась необычно теплой.
Проснулась Арина уже утром; несмотря на то что было чуть позже семи, свет казался не утренним, а дневным, мимо окна проплывали дебаркадеры, стоящие поезда, товарняки и рифленые бетонные заборы. Тетя Лена и дядя Женя встретили их, как обещали, на Ленинградском вокзале; точнее, прямо на платформе, практически напротив окна их купе; было непонятно, как они заранее вычислили его так точно. Позвали носильщика, побросали вещи в багажник и сразу же тронулись; Арина помнила, что недалеко. Москва всегда немного удивляла ее сочетанием несочетаемого; старые дома, даже не просто старые, как в центре, а часто двухэтажные, совсем небольшие, чуть ли не как Кикины палаты, а рядом с ними либо что-то такое явно советское, середины века, либо вообще кирпичное, по виду не так давно и построенное; все это было вперемешку и, похоже, никому не мешало. В Лопухинском Митя выскочил из машины и сразу же побежал наверх, даже не предложив дяде Жене помочь с вещами; он вообще любил Москву больше ее. Арине стало неловко. Так что помочь предложила она, но дядя Женя только приподнял голову над багажником, засмеялся и отмахнулся.
– Аренька, – сказала тетя Лена, – ну какие у вас вещи.
Бабушка встретила ее в дверях, а бабушка Ида, младшая сестра деда, в прихожей. Дед Илья обещал прийти к обеду, но, как выяснилось, собирался потом снова куда-то уехать. Мама им временами говорила, что Москва и не город вовсе, больше «комплекс сросшихся деревень», превращенный большевиками в столицу взамен другой, настоящей, так и не сломленной, но слова словами, а справедливости ради Арина вынуждена была признать, что приезжать в Москву приятно. Приятно, когда тебя обнимают и даже немного тискают, одновременно предлагают устроиться поудобнее и покормить и спрашивают обо всем на свете; приятно садиться за огромный стол у окон с тяжелыми шторами, вытягивать ноги, даже разваливаться на стуле, как будто сидишь на садовой скамейке. Но потом за все эти мысли ей стало стыдно перед самой собой, как если бы она неожиданно упала в собственных глазах; Арина выпрямила спину и подумала, что просто очень рада всех видеть – бабушку, и бабушку Иду, и дядю Женю, и тетю Лену; тетю Лену, наверное, почему-то даже в особенности, хотя как раз Полина мама прямой родственницей им не была, она была второй женой дяди Жени. Мама утверждала, что тетя Лена, наверное, втайне говорит о нем «жидовская морда», но Арина в это не верила. К этому моменту она уже знала, что не все, что говорит мама, следует понимать буквально.
Зазвенел звонок-гонг, но дед отпер дверь сам и сразу же вошел.
– Не приходить же без звонка, – сказал он, и было непонятно, говорит ли он всерьез или шутит.
Арина подумала, что, с тех пор как дед гулял с ними по набережной, он изменился, кажется постарел, а может быть, просто по дороге домой еще не успел сбросить с себя бремя рабочих дел. Но и про себя она думала нечто похожее; уже некоторое время ей казалось, что она очень быстро и необратимо становится взрослой.
Почти целую неделю они прожили у тети Лены, дяди Жени и Поли, где-то в новостройках, у метро со странным названием «Аэропорт». Мите отвели маленькую комнатку, которая обычно служила дяде Жене кабинетом, а вот Арину, к ее изрядному недовольству, поселили в одну комнату с Полей. Ей казалось, что теперь они говорят на разных языках. Как-то втроем они шли по улице и из одного из открытых окон услышали глубокий и прекрасный голос Далиды. Арина увидела, как Митя поднял голову и поискал глазами окно.
– Не понимаю, – сказала Поля, почему-то обращаясь только к Мите. – Почему? Она же была одновременно столь многим. Была одарена почти во всем. Кажется, ей удавалось практически все, за что она ни бралась. Перед ней был открыт весь мир. Не понимаю.
Митя кивнул. Арина растерянно посмотрела на Полю.
– Она недавно покончила с собой, – объяснил он Арине.
– Это как-нибудь объяснили?
– Она оставила записку, – добавила Поля. – La vie m’est insupportable. Pardon-moi.
Митя снова кивнул.
Весь этот разговор показался Арине пустым, малопонятным и на удивление чужим. Несмотря на то что она ощущала себя неожиданно взрослой, именно в этот приезд несколько лет, разделявших их с Полей, показались ей настоящей пропастью. Несмотря на маленькую грудь, гораздо меньше, чем у Арины, как ей казалось, Поля выглядела сформировавшейся женщиной. Это заставляло Арину снова ощущать себя почти ребенком, и ей это не нравилось. По утрам по их спальне Поля ходила практически голой, в одних белых хлопчатобумажных трусах; могла так подойти и к окну. А еще она надо всем смеялась, и над хорошим, и над плохим, даже над чужим горем; Арину это отталкивало, но она сдерживалась. Как-то утром Митя постучал к ним в комнату, и Поля сразу же откликнулась:
– Что это еще за церемонии? Заходи, конечно.
Только потом, когда Митя уже стоял на пороге, Поля с напускным удивлением посмотрела на себя, демонстративно смутилась и добавила, что забыла, что еще не одета. Попросила подождать пару минут в большой комнате. Митя неловко опустил глаза, быстро развернулся и вышел. Но Арина успела увидеть, как вспыхнули его глаза, каким-то совсем незнакомым именно в нем, чужим и отталкивающим блеском, чем-то похожим на то выражение, с которым одноклассники иногда смотрели на ее грудь, и с этого утра она стала относиться к Поле еще хуже, на самом деле с трудом ее выносила. А ходить по дому полуодетой Поля временами продолжала, хотя вроде бы в рамках приличий. Арине казалось, что краем глаза Поля наблюдает за Митиной реакцией, и это выводило ее из себя еще больше. Так что она была очень рада, когда они переехали назад к бабушке и дедушке, в ту все еще странно малорослую, но теплую и почти родную для нее Москву.
« 10 »
– Давайте посмотрим, что у них там происходит, – как-то сказал дед, включая телевизор, но сказал это так, как иногда и вообще с ними разговаривал, не спрашивая, а просто ставя в известность. Арина устроилась на диване рядом с бабушкой.
– Ты был в Женеве? – спросила она.
Дед покачал головой:
– И не уверен, что там есть что делать.
На экране широко улыбался их молодой генеральный секретарь; вокруг улыбались тоже, одобрительно кивали. Показывали много иностранцев, частью известных и примелькавшихся по новостным выпускам, частью каких-то незнакомых. Все были в костюмах. Арине показалось, что Мите стало скучно; потом он тихо поднялся и ушел к себе. На экране Горбачев много и горячо говорил; говорил о лучшем будущем для всех, об общечеловеческом, о мире без страха, о необходимости построить новый европейский дом, который станет для них общим. Дед тяжело и внимательно смотрел на экран, чуть опустив челюсть, сжав пальцы рук в замок.
– Это хорошо? – спросила его Аря.
– Конечно, – ответил дед. – Как же это может быть плохо?
– Война – это очень страшно, – добавила бабушка. – Ты даже не представляешь, насколько страшно. Лучший дом для всех – что может быть лучше.
Арина огляделась, посмотрела на них. Бабушка Ида поймала ее взгляд, улыбнулась и согласно кивнула.
Дед расцепил кисти рук, внимательно посмотрел на Арину.
– Страна, которая не меняется, – сказал он, – обречена на гибель. Мы все меняемся. И должны меняться. Так устроен мир.
На секунду Арине показалось, что он говорит с ней и одновременно с кем-то еще. Но это ощущение оказалось ошибочным и исчезло почти мгновенно.
– Иногда, – продолжил дед, – ради общих целей приходится жертвовать собственной выгодой, даже частью собственных интересов. Но лучший мир стоит того. Если получится, это будет мир без страха, без непосильных военных расходов. Понимаешь, это как в шахматах. Ты жертвуешь коня, но выигрываешь партию. А в данном случае партию выигрываешь не только ты, но и все.
– А такое бывает? – спросила Арина. – Чтобы выиграли все и никто не проиграл?
– Бывает, наверное, – ответил дед, а потом поправился: – Конечно, бывает. Это и называется мир.
Арина задумалась.
– А ты тоже воевал? – спросила она деда. – Дедушка Натан нам почти ничего не рассказывает. Бабушка больше. Про блокаду.
Дед кивнул.
– Воевал, – ответил он. – Только что там рассказывать. Воевали. Победили.
Он подошел к телевизору, сделал погромче. На экране уже горячо пожимали руки, чуть ли не обнимались. «Мир», – подумала Арина. Все ее детство это слово произносили так часто – в школе, по телевизору, в песнях, – что оно давно потеряло всякий смысл. А сейчас ей пришло в голову, что, наверное, как-то так мир и выглядит; эта мысль ее удивила. Слово стало выпуклым. «Мир», – одними губами удивленно повторила она.
Арина неожиданно обнаружила, что за окном уже темно, а сама она почти засыпает.
– Я пойду, – сказала она.
– Спокойной ночи, – ответил дедушка. Ей снова показалось, что он думает о чем-то другом, тяжело и напряженно.
Бабушка поднялась с дивана и взяла ее за руку.
– Я сама, – удивленно возразила Арина.
– Пойдем, пойдем.
Вопреки обыкновению он рано лег спать.
– Что-то случилось? – обеспокоенно спросила его Аня.
– Нет. Просто устал. Ты же понимаешь, все это создает очень много лишней работы. Будем надеяться, что вправду к лучшему. Да и этот болтун все-таки не один решает. В случае чего его притормозят.
– Ты плохо себя чувствуешь?
– Не волнуйся, – ответил Илья. – Все правда нормально. Почитай еще.
Аня выключила свет, но он все равно не уснул, долго ворочался, кровать казалась жесткой и неудобной. «Изнеженные мы стали», – подумал он, но потом все же уснул. Сон, поначалу размытый, постепенно начал приобретать более отчетливые контуры. Ему снилось густое и синее море, и, погружаясь в сон, он еще успел подумать, что это, наверное, именно то никогда им не виденное море, о возвращении к которому молились его деды, а иногда почему-то даже отец. Но потом Илья понял, что море было другим; во сне он не мог объяснить, почему именно, но твердо знал, что оно другое. На берегу возились какие-то люди с тросами, и их цепочка уходила все дальше в море; они стояли по щиколотку, по колено, по плечи в воде, но и медленно двигались в сторону суши. Вслед за ними из-под воды выползало огромное деревянное сооружение, похожее на крайне топорно сделанную лошадь. Ее голова поднялась над водой, и он с удивлением понял, что это действительно голова лошади. За ней из воды поднялся тяжелый конский круп; потом стали отчетливо видны копыта. Две цепочки уцепившихся за канаты маленьких людей тащили этого нелепого гигантского коня. Конь медленно поднимался над водой, постепенно обнажая свои чудовищные очертания. Неожиданно Илье стало страшно. Он вздрогнул и проснулся.
Илья понял, что мешало ему все эти дни, все эти недели, как песчинка в глазу, которую и не увидеть, и не коснуться, а без зеркала и платка толком и не избавиться. «Их обманут, – подумал он. – Их уже обманывают. Не только этого улыбающегося нарцисса. Все мы стали слишком изнеженными». От бессилия перед изощренным чужим коварством и гигантским колесом истории ему стало так душно и горько, как будто приснившееся ему будущее уже наступило. Он встал, подошел к окну, отдернул штору. Городское небо было темным и бессветным. «В Валентиновку бы сейчас, – тоскливо подумал он, – там хотя бы звезды». Проснулась Аня.
– Ты не спишь? – обеспокоенно спросила она.
– Сплю. Какая-то ерунда приснилась.
– Опять про войну?
– Нет. Просто ерунда. А почему про войну?
– Тебе теперь стала часто сниться война.
– Старею, наверное, – ответил Илья, попытавшись выразить улыбку голосом; он понимал, что на фоне чуть светящегося прямоугольника окна его лица она не видит. Вернулся в постель.
Как ни странно, на этот раз он быстро уснул. Но ему действительно приснилась война. Это было восемнадцатого октября, в то утро его, тогда еще лейтенанта, прикомандировали к какому-то полковнику, который должен был отвезти в Москву документы. Почему-то отвезти их надо было кому-то из аппарата правительства, не по военной линии. «Если меня убьют, – сказал полковник, – папку вы все равно довезете. Как вы это сделаете, меня не интересует. Вы все поняли?»
От фронта до Москвы ехать было всего ничего; так что если что и мешало, то в основном тыловые проверки, хотя какой уж тут был тыл. Как обычно, все грохотало. На дорогах был хаос. Чуть за полдень они были в Москве; город казался полупустым, только что не брошенным. Как выяснилось, правительства в Москве уже не было; почти весь аппарат эвакуировали в Куйбышев. Так что и им тоже пришлось ехать в Куйбышев. Они ехали по Москве, а воздухе висела черная гарь; в бесчисленных каминах, печках и буржуйках жгли документы, а пепел вытряхивали прямо в окна. Не по сезону холодный ветер разносил черный пепел вдоль улиц. В душе выло тяжело и горько. Несокрушимая машина вермахта должна была вступить в город со дня на день, может быть завтра, хотя, может, и через три дня. Илья продолжал спать, а его сон заносило грязным снегом, наполненным черной бумажной гарью; он спал и не мог проснуться.
Часть четвертая
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Скажи мне, где все прошедшие годы
И кто расколол копыто дьявола,
Научи меня слышать пение русалок
Или избегать жалящей зависти.
Донн
« 1 »
Встретились случайно, но, встретившись, обнаружили, что оба никуда не торопятся, так что зашли в ближайшую пирожковую, почти напротив метро.
– Я очень рад, – сказал Андрей, когда они устроились за столиком, поставив перед собой две чашки «напитка кофейного» и тарелку с пирожками, – что на этот раз ты вернулся насовсем. Петр Сергеевич за тебя очень волновался.
Сергей кивнул. Было видно, что он рад встрече, но продолжает о чем-то думать, как будто он здесь и не здесь одновременно.
– Да.
– И для Кати очень важно, что родители будут всегда рядом.
– И это правда. То, что она почти постоянно была без нас, меня очень мучило. Отец от нее не отходил, но все равно ребенку нужны родители.
– А вы никогда не думали забрать ее с собой?
Сергей изумленно на него посмотрел:
– Андрей, ты это серьезно?
– Прости.
Они отхлебнули по паре глотков кофейного напитка, еще немного посидели молча.
– Но я вижу, что ты не рад?
– Чему ж радоваться, когда собираешься совершить подлый поступок. Пусть не лично подлый, но коллективно – да. Мы же обещали их защищать, там миллионы людей, которые с нами так или иначе связаны, женщины, уже почувствовавшие себя людьми, дети, научившиеся читать, а теперь мы их всех предали и собираемся бросить на растерзание исламистам. Странная причина для радости.
– А наших мальчиков тебе не жалко?
Сергей снова поднял на него глаза, теперь уже безо всякой симпатии.
– Андрей, – ответил он, стараясь оставаться спокойным, – ты там не был. А я был. И, как ты знаешь, долго. Пусть большую часть времени и на нашей территории. Мне каждого из них жалко. Поверь. А я их видел. И мертвыми тоже. И искалеченными. И сошедшими с ума.
– Но?
– Ты правильно продолжаешь. Но мы с тобой историки. А я еще и востоковед. Я же к вам тогда скорее случайно прибился. И мы оба знаем, что если закрыть калитку и сделать вид, что проблему можно оставить за околицей, то она скоро придет и постучится в дверь. Или в окно. Это уж как карта ляжет.
– Или исчезнет сама собой, – не согласился Андрей. – Как историки, мы с тобой знаем, что такое тоже возможно. И ничуть не менее вероятно. И тех и других примеров в истории множество. Тем более что воевала там с вами не страна и даже не единая организация, а довольно бесформенное сборище с очень разными интересами. Вы что, еще восемь лет хотите с ними воевать?
– Давай сменим тему.
– Прости, – сказал Андрей.
Они снова помолчали.
– Отец говорил, что вы продолжаете копать, – начал Сергей в более спокойном тоне.
– Есть такое дело. – Андрей улыбнулся.
– Это хорошо. Все народы держатся за свои камни, это только мы как начали топтать свое прошлое, так до сих пор не можем остановиться. А без прошлого и воевать будет не за что.
– Нет, нет, – ответил Андрей, – это совсем о другом. Ты не понимаешь.
– Возможно.
Андрей замялся, не зная, как объяснить.
– Это как раз о том, чтобы не воевать, – сказал он. – Понимаешь, мы смотрим на икону и видим тот мир, в котором люди уже не мучают друг друга. И он светлый. Ты еще не забыл, что те, древние, иконы на самом деле очень светлые?
Сергей кивнул.
– Они часто почти солнечные, – продолжил Андрей. – Это ведь радость оттого, что другой мир есть, что он возможен и здесь, что к нему надо просто протянуть руку. Как светящийся небесный город, который уже рядом. Где мальчиков не будут посылать умирать и они не будут сходить с ума.
– Странный мы с тобой ведем разговор. Не знаю, насколько ты прав насчет икон. Мне кажется, неправ. В древности с иконами и в бой ходили. Но ведь есть же и здравый смысл. Пока вы будете созерцать ваш счастливый небесный город, придет тот, кто злее и сильнее, убьет твоих детей и Иру, ограбит и сожжет дом, а тебя самого угонит в рабство для более эффективного производства прибавочной стоимости. Я тебе уже сказал; к сожалению, войну я видел.
Разговор двигался по кругу, и Андрей не знал, как его из этого круга вывести. Это было не просто его работой, о которой хотелось рассказать; от Натана Семеновича он знал, что сын Петра Сергеевича вернулся подавленным и злым, и Андрею хотелось помочь ему увидеть мир с другой стороны.
– Ты читал книгу о русской иконе князя Трубецкого? – спросил он.
Сергей покачал головой:
– Я как-то все больше про Тамерлана. В широком смысле.
– Трубецкой писал во время Первой мировой войны. Его очерки об иконе начинаются с того, что в природе чья челюсть больше, а зубы острее, тот другого и съел. И что человечество тоже так может жить, да почти всю свою историю и жило. Тот народ, чье клыки больше, съедал соседей. Во время мировой войны такой взгляд на вещи стал особенно видимым, а словесные украшения исчезли.
– Что же, – заметил Сергей, – звучит, может быть, не очень привлекательно, но разумно. И достоверно.
– Но не для Трубецкого. Для него русская икона как раз и воплощает возможность отрицания этого животного состояния, возможность подняться над всевластием жестокости и животной силы. Собственно, для него это и есть сама возможность быть человеком.
– Допустим, – ответил Сергей. – Но я тебе уже сказал, что я думаю о таких теориях. В качестве национальной идеи они самоубийственны.
– Трубецкой не говорит о национальной идее. Он как раз и пишет о том другом, что русская культура воплощает для мира. Вопреки всему зверству истории. Как раз национальная идея у каждого своя, и одна чудовищнее другой.
Сергей поморщился.
– По этой же причине, – продолжил Андрей, – Трубецкой был против окладов. Для него оклад – это не возможность сохранить, а возможность не видеть. Он считал их скрытой формой иконоборчества.
– А мне так кажется, что это скорее проблема самого Трубецкого. И вообще интеллигенции в России. Что она не чувствует и не понимает народ. И народную религиозность не понимает тоже.
– Трубецкой был князем. А это все же не интеллигенция в тогдашнем понимании. Он, кстати, был против храма Христа Спасителя. Считал его китчем. Еще одним способом не видеть. Воплощением безмыслия. Называл его самоваром всея Москвы.
Сергей снова поморщился.
– Слушай, – резким движением Андрей поднял с пола дипломат, положил его на стол и начал в нем рыться, – у меня же эта книга с собой. Я ее перечитывал и который день про нее думаю.
Он протянул Сергею ротапринтное издание Трубецкого; тот покрутил его в руках, полистал, прочитал несколько абзацев, выбранных явно случайным образом. Андрей продолжал внимательно на него смотреть.
– Ты знаешь, Андрей, – сказал Сергей, заложив самодельное издание указательным пальцем, – хвалить русскую икону стало теперь делом легким, как-то подозрительно легким. Даже немцы теперь расхваливают наши иконы на все лады, хотя сорок лет назад жгли их в печах, а в церквях держали лошадей. Теперь уже и комсомольцы стали рыскать по деревням; где икону украдут, а где купят за бесценок у умирающей бабки. Хвалить-то легко, а знаем ли мы достаточно для того, чтобы их хвалить? Я не про академическое знание. Про твоего Трубецкого ты, может быть, и прав. Не мне судить. Но есть ли у вас та вера, которая нужна, чтобы иконы понимать?
Он положил книгу на стол, рядом с кофейным напитком. Они были почти ровесниками, но теперь Андрей казался значительно моложе, едва ли не на полпоколения, и был чуть выше. А еще Андрей начал сутулиться, все больше говорил один, часто с выраженным отсутствием такта и несколько неприятно всматривался в собеседника своими сияющими глазами.
– Ты, Сережа, конечно же, прав, – ответил он. – Но прав ты как-то неправильно, так что и соглашаться с тобой не хочется. И смешал ты совсем разные вещи. Немцы и людей в печах сжигали; вот нас сжигали; так что же теперь – себе не верить? И архаровцы ваши комсомольские – разве это аргумент? Они же за деньгами по деревням рыщут. И не только в этом дело. У той же умирающей бабки если они икону не купят, хоть правда за бесценок, сгниет эта икона после ее смерти, сгниет вместе с домом в разоренной деревне. Если бы ваши власти иконы сами собирали, тогда было бы другое дело. Мы тут мечемся, восстанавливаем, что можем, но это только капля в море. Все же это понимают.
– Наши власти, Андрей, – поправил его Сергей с легкой и недоброй улыбкой и повторил: – Наши власти.
– Это ваша власть, – горячился Андрей, чувствуя себя все более привлекательным в своей горячности, а для Сергея становясь все более отталкивающим в своем раздражении. – Хотя ты же ее только что сам ругал. А по мне так пропади она пропадом. Да и что это за страна такая, где подобная власть действует безнаказанно? Разве не она эти деревни разорила? Не она ли их голодом морила? Не она ли сыновей этой бабки посылала на танки с одной винтовкой, так что эта бабка теперь умирает одна в пустом доме?
– Ну если бы эти мальчики в тех полях не остались, мы бы с тобой, Андрей, здесь, вероятно, не сидели.
– А к чему они вернулись? – продолжал настаивать Андрей с еще большей убежденностью. – Кору есть? Хлебные колоски собирать? От одного людоеда к другому? Гитлер хотя бы убивал чужих, а Сталин уничтожал всех без разбора.
Сергей помрачнел, и его лицо как-то неприятно наполнилось морщинами.
– Продолжение этих мыслей я знаю, – ответил он резко и неприязненно. – Только ты, Андрей, ни Гитлеру, ни Сталину не свой; так что никакого бы пива тебе сейчас не пить. Ни любимого баварского, ни ненавистного новгородского. И ничего бы тебе не пить вообще. Да и нам бы всем было не до пива.
– Ты мне моей национальностью не тыкай! – сорвавшись, закричал Андрей. – Мы с тобой уже это проходили. То, что я об этом не вспоминаю, не значит, что я все забыл. Хочешь этот режим оправдывать, милости просим, только мою национальность, о которой я ничего толком не знаю и знать не обязан, в эти твои рассуждения, пожалуйста, не впутывай.
– Дело не в национальности, – ответил Сергей спокойно и зло, почти не повышая голоса, – а в том, что вы решили, что у вас есть право определять судьбу России. И говорить от ее имени. А она была за сотни лет до вас, будет и после вас. И никто вам такого права не давал. Вон ты уже о церковных окладах рассуждаешь. Да если бы только это. Сначала вы храм Христа Спасителя взорвали, а сейчас ты уже князя этого своего с его дурацкими теориями приплел, чтобы доказать, что и не нужен был храм русскому народу. Русский народ только тебя забыл спросить.
Андрей встал, забрал книгу, положил ее в дипломат, со звоном закрыл замки и вышел, не прощаясь.
« 2 »
Этот разговор оставил чрезвычайно неприятное впечатление, неприятное настолько, что Андрей уговорил Валеру сходить на митинг общества «Память» в садике около Академии художеств. Поначалу Валера не мог понять, зачем Андрею это потребовалось, но потом все же согласился, возможно просто по дружбе, так и не понимая, для чего они туда идут. Месяц за месяцем об обществе «Память» и их сборищах говорили и писали все больше, даже показывали по телевизору, так что Андрей ожидал увидеть огромную толпу. Но толпа оказалась относительно скромной, хоть и малоприятной, да и состоящей в основном из людей очень немолодых, а по большей части еще и несколько потрепанных. На них с Валерой практически не обратили внимания. Выступали долго, несмотря на плохую погоду; некоторые из выступавших ораторствовали с известным исступлением. Ораторы менялись, говорили о разном: про разрушение города, про упадок деревни, про заброшенные церкви и даже про экологию. И все же по большей части говорили то, чего за это время в разных контекстах Андрей и так уже успел наслушаться. Говорили о том, что Россию евреи продали (обычно германскому Генеральному штабу, но в версиях были расхождения) и погубили, что евреи убили лучшую часть нации (словом «генофонд» теперь широко пользовались и патриоты, и либералы), создали и возглавляли концлагеря, взрывали церкви и особенно храм Христа Спасителя. Было в этом что-то клоунское и даже печальное; в прессе и по телевизору «памятники» казались значительно более пугающими.
Никаких конкретных призывов к действию они не услышали; не услышали даже ритуальных требований «убираться в свою израиловку».
Через час-полтора Валера пожал плечами и посмотрел на Андрея.
– Тебе еще не надоело? – спросил он.
– Не знаю.
– Очень опасными они не выглядят.
– Не выглядят, – согласился Андрей. – Но и ничего хорошего в этом нет.
Валера снова пожал плечами:
– Мало ли сумасшедших. Да и выглядят они скорее несчастными.
– Как ты понимаешь, мне трудно им сочувствовать.
– Мне тоже, – ответил Валера.
«А все-таки в этом ему меня не понять», – грустно подумал Андрей.
Начало накрапывать.
– Ладно, пойдем, – сказал он.
– Ну как? Ты убедился, что все это ерунда?
Теперь уже Андрей пожал плечами. Он был почти готов согласиться с Валерой, но вспомнил исступленное лицо сына Петра Сергеевича. Сборище «памятников» его не испугало и даже не особенно взволновало, хотя назвать все это приятным было сложно, а вот от воспоминаний о разговоре с Сергеем отделаться было труднее. Это не было обычным антисемитизмом. Андрею казалось, что в воздухе повисло нечто новое, нечто такое, говорить о чем ему не хотелось; и мысли об этом он старательно прогонял.
« 3 »
Приблизительно в то же время Митя стал чаще встречать внучку Петра Сергеевича Катю и видеть ее не только дома у дедушки. Она так долго росла практически без родителей, что, как Митя понял из случайно услышанного, чуть ли не подслушанного разговора между мамой и дедушкой, после возвращения ее родителей отношения складывались не вполне гладко. Но внешне она оставалась все такой же непроницаемой, самой безмятежностью, почти как тогда в филармонии, хотя, конечно же, без банта, как когда-то, когда он впервые увидел ее в гостях у дедушки, и только изредка в уголках ее глаз вспыхивала глубоко спрятанная грусть. В едва ли не первую их «самостоятельную» встречу ранней осенью Митя увидел ее случайно; Катя шла через Михайловский сад, кажется пересекала его по диагонали, не быстро и не медленно, в каком-то своем особом темпе, который позже только с ее шагом для Мити и связывался. Митя подумал, что, наверное, она была на работе у Петра Сергеевича, а потом мысленно добавил, что, наверное, там ей теперь лучше, чем дома.