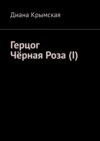Kitabı oku: «Герцог Чёрная Роза (I)», sayfa 2
– И это ещё не все, дочь моя; в своем великодушии наш государь не только простил меня, но и выразил желание заключить союз между своим близким родичем и одной из моих дочерей. Знай же, что стоящий перед тобой рыцарь – кузен короля, и что я выбрал ему в жены тебя, как достойнейшее из своих чад…
Она опять на секунду подняла глаза – и, как показалось Черной Розе, с надеждой посмотрела на красивого золотоволосого де Брие.
«Ещё бы! – горько усмехнулся про себя герцог. – Не только мое имя внушает ужас! Моя маска, как всем кажется, скрывает жуткое уродство или безобразные шрамы! Ну ничего… До ночи осталось совсем недолго. И, если перед всеми я вынужден носить эту маску, – в постели я её сниму. И тогда эта надменная красавица увидит, что, если я и не смазлив, как герой какого-нибудь рыцарского романа, то и не уродлив, как сатир!»
Граф между тем закончил свою речь словами:
– Итак, дочь моя, сегодня ты станешь женою герцога Черная Роза!
Девушка пошатнулась, как будто её ударили. Де Брие тут же бросился к ней и, поддерживая её за талию, сказал:
– Позвольте помочь вам, прекрасная графиня! Идемте сюда, к окну, здесь прохладнее, присядьте на скамью… – Ухаживая за дочерью Руссильона, он тем не менее бросил насмешливый и торжествующий взгляд на герцога: «Я первый коснулся её!»
…Когда-то, будучи ещё подростками, в Париже, они нередко забавлялись, пугая в сумерках по вечерам одиноких молодых горожанок, доводя бедняжек чуть не до обморока. Друзья выскакивали перед ними из темных закоулков на узких парижских улочках, с криками и диким хохотом. При этом юноши заключали между собой пари: кто первый подбежит и прикоснется к незнакомке. Но однажды эта вполне невинная, как им казалось, шалость, чуть не привела к трагедии: напуганная ими девушка бросилась бежать и едва не попала под лошадь проезжавшего мимо на полном скаку всадника…
Черная Роза вспомнил, как он выхватил несчастную (и, что удивительно, тоже рыжеволосую) девушку прямо из-под копыт; вспомнил, как они с Анри, оба белые, с трясущимися руками, принесли бедняжку в ближайший кабачок.
Там её, потерявшую сознание, привели в чувство. Когда она рассказала, что с ней произошло, герцог – глупый мальчишка! – вытащил кошелек с золотом и протянул девушке. Он не ожидал, что его поступок вызовет такую бурю! Собравшееся в кабачке простонародье набросилось на него и де Брие, и они еле унесли тогда ноги.
Этот случай сильно потряс тогда юного герцога. Он понял, как, порой, невинная шалость или бездумная прихоть могут привести к необратимым и трагическим последствиям. И ещё – он дал себе слово: никогда не причинять зла женщинам, к какому бы социальному слою они не принадлежали, будь это аристократки или простые крестьянки.
…Воспоминания на минуту отвлекли Черную Розу от его невесты, вокруг которой, между тем, хлопотали де Брие и её отец. Девушка теперь совершенно пришла в себя. Она сидела на скамье у окна, все так же опустив глаза и прижимая к бурно вздымающейся груди свою книгу, словно это был некий щит, способный оградить её от ужасной действительности.
Герцог решил, что он должен тоже подойти к своей нареченной и попытаться успокоить её. Приблизившись к ней и низко поклонившись, он ласково спросил:
– Сударыня, вам уже лучше?
Она молча кивнула.
– Она почти не спала и почти не ела несколько дней, – сказал старый граф, – все время проводила на коленях в часовне, молясь за замок и его обитателей…
При этих словах, заметил герцог, легкая краска выступила на бледных щеках девушки.
Возможно, ей было стыдно за проявленную ею слабость; рыцарь решил отвлечь её и спросил, указывая на книгу:
– Что вы читаете, сударыня?
Она, опять же не говоря ни слова, повернула к нему книгу – это было Евангелие. Герцог услышал, как де Брие тихо фыркнул за его спиной.
– Моя дочь – набожная католичка, – произнес немного задетый этим смешком Руссильон.-Надеюсь, такая же ревностная, как и вы, господа!
– Конечно, конечно, господин граф, – сдерживая улыбку, примирительно заверил его Черная Роза.
Монашка!.. Ничего, став его женой, она быстро позабудет про молитвы и забросит свое Евангелие. Он покажет ей другой мир – мир плотских удовольствий и безграничных наслаждений, которые, судя по всему, она считает сейчас смертными грехами.
А юная графиня по-прежнему смотрела не на жениха, а куда-то вниз.
– Взгляните же на меня, – попросил он, – поверьте, я не так страшен, как вы, наверное, вообразили… Смелей!
Она сделала над собой видимое усилие, закусила губы и – подняла голову, жестом какой-то гордой отчаянности, что необычайно ему понравилось, – и посмотрела прямо ему в лицо.
О, Боже! Глаза у неё были глубокого – не голубого, а синего цвета, огромные и прекрасные!
«Как васильки…» – подумал герцог, сам удивившись такому буколическому сравнению; он любил поэзию и даже сам сочинял стихи, но полгода, проведенные в Лангедоке, в ужасных сражениях и безжалостных кровавых схватках, давно выветрили из его головы всю лирику.
А эти васильковые глаза смотрели на него – но нет, не с ненавистью, не с ужасом, не с презрением, – в них были безграничное, глубочайшее горе и безысходность, и они поразили рыцаря в самое сердце.
Между тем в залу быстрым шагом вошла полная женщина средних лет с добродушным и открытым лицом. Это была кормилица и служанка графини, за которой Руссильон послал Бастьена.
Неловко поклонившись графу и рыцарям, женщина подошла к своей госпоже, которая тут же, как за спасательный круг, схватилась за её руку.
– Элиза, – сказал Руссильон, – Мари-Флоранс сегодня выходит замуж.
При этих словах служанка вытаращила глаза и открыла было рот, чтобы что-то произнести или возразить, – но юная графиня крепко, до боли сжала ей руку и быстро проговорила:
– Элиза, я хотела бы вернуться в свою комнату!
– Конечно, моя голубка, – по-деревенски растягивая слова, с сильным окситанским* акцентом сказала кормилица.
Граф же продолжал:
– Церемония состоится в нашей часовне. Приготовь для Мари-Флоранс свадебное платье её матери и помоги ей одеться и причесаться. Венчание начнется перед закатом…
Когда его невеста со служанкой оставили их, герцог обернулся к Руссильону. Он никак не мог забыть того единственного взгляда, которым наградила его прекрасная графиня. Это отчаяние, это безмерное горе могли объясниться лишь одним, – девушка любила другого!
– Граф, – сказал Черная Роза, – хотя мы и мало знакомы с вами, но мне кажется, что вы – прекрасный и любящий отец, желающий счастья своим дочерям.
– Надеюсь, что это так, монсеньор; конечно, для девочек была ближе мать, но после её кончины я, как мог и как умел, старался заменить её им…
– И они поверяют вам свои чувства, склонности и желания?
– Ну, – отвечал немного смущенный этими вопросами старик, – мои девочки слишком юны, чтоб иметь какие-то особые желания и склонности. Но вот когда моя старшая дочь, Марианна, увидела на турнире графа де Монсегюр, она в тот же день сказала мне, что хотела бы стать его женой; надеюсь, и остальные дочери были бы так же откровенны…
– Будем говорить без обиняков, – сказал герцог, – мне показалось, что обморок графини был вызван не длительным постом и истощением; она так тяжело перенесла известье о нашем браке потому, что питает к кому-то сердечную склонность. Время еще есть, и возможно все исправить, -ведь у вас имеются три другие дочери, и я готов жениться на любой из них.
– Благодарю за откровенность, господин герцог, и за то, что вам небезразличны чувства Мари-Флоранс; но вы ошибаетесь. Я уверен, – и готов в том поклясться, – что она никого не любит… (Тут старик неожиданно опять вспомнил про Гийома Савиньи, но сказал про себя: «Что за ерунда? Детская привязанность, дружба, не более!») и сердце её свободно. Впрочем, если вы настаиваете… Я переговорю с отцом Игнасио – это священник и духовник моей дочери; если даже от меня у неё есть тайны, то своему духовному отцу она доверяет всё.
Черная Роза задумчиво кивнул головой.
Они обсудили с графом еще оду важную тему – ту, которая обычно поднималась первой при брачном соглашении, – размеры приданого Мари-Флоранс. Несмотря на то, что герцог был несметно богат, он с интересом выслушал, что дает за его будущей женой Руссильон. В эту кровавую жестокую эпоху, когда то и дело вспыхивали войны или эпидемии, уносящие тысячи и десятки тысяч жизней, когда даже короли не чувствовали себя в безопасности на своих тронах, – в эту эпоху бескорыстие не считалось большой добродетелью. Вступая в брак, даже очень богатые люди стремились приумножить то, что имели, думая не только о себе, но и о своих потомках, для которых земли, замки и поместья станут гарантами власти, могущества и безопасности.
Дочь графа приносила Черной Розе два замка, обширные владения на юге Лангедока и плодородные земли Минервуа и Люнеля.
– Я сейчас же велю отцу Игнасио – он у меня прекрасный секретарь – составить все бумаги, и передам их вам после венчания, – сказал граф. – А также распоряжусь о подготовке часовни к обряду… Не угодно ли вам, монсеньор, будет ещё что-нибудь?
– Я пока пошлю графа де Брие в мой лагерь за снедью и вином для свадебного пира. Поскольку мы заключили союз, ваше сиятельство, осада замка снята, и Анри передаст это моим людям. Вы же можете сообщить радостную новость обитателям замка и всем, кто нашел здесь приют; они могут вернуться в свои дома и никто не задержит их и не причинит им вреда. Если же кто-то захочет остаться на праздник – добро пожаловать! Мой союз с вашей дочерью – отнюдь не тайный, хоть я и вынужден буду по-прежнему носить пока маску и венчаться под именем Черной Розы, как приказал король. И, чем больше человек станут свидетелями этого бракосочетания, тем быстрее новость о нем разнесется по окрестностям и скоро облетит весь край. Лангедок должен знать, что граф де Руссильон – снова верный подданный короля!
Руссильон наклонил голову в знак согласия.
– Я оставлю вас пока, господа, но скоро вернусь.
Когда он удалился, герцог спросил де Брие:
– Ты все понял, Анри? Мои люди должны немедленно снять осаду и выпустить из Руссильона всех, кто этого пожелает!
– Конечно, монсеньор, – с улыбкой подтвердил молодой человек, – я полечу, как на крыльях! Все передам, и привезу и мясо, и дичь, и вина… Только смотрите, как бы ваша красавица-невеста не объелась после столь долгого поста и не подпортила вам первую брачную ночь, мучаясь животом.
Черная Роза улыбнулся. Никому, кроме своего друга, он бы не позволил столь дерзкой шутки.
Де Брие направился к двери, но, уже открыв её, обернулся опять к герцогу.
– Да, и ещё. На вашем месте я бы все же взглянул и на остальных дочерей графа…
– Зачем?
– Согласно законам логики, если Мари-Флоранс гораздо красивее своей старшей сестры Марианны, – то самой прекрасной должна оказаться младшая дочь Руссильона, которой сейчас восемь лет!
*mon Droit de cuissage (моё право первой ночи, фр.)
* Окситания – область, включающая юг Франции (Прованс, Дром-Вивере, Овернь, Лимузен, Гиень, Гасконь и Лангедок), часть Испании и Италии, где говорят на окситанском языке
3. Ссора и поединок
…Пока в зале замка происходила описанная выше сцена, во дворе его развивались события ещё более драматические.
Как уже было упомянуто, герцог Черная Роза приехал к Руссильону в сопровождении двух пажей-оруженосцев, которые, пока шел разговор их господина с графом, остались во дворе замка.
Это были подростки, а скорее мальчики, лет тринадцати; один – тот, что вез знамя герцога, коренастый голубоглазый блондин, судя по всему, нормандец; второй – истинный сын Лютеции*, худощавый и верткий, кареглазый и черноволосый.
Оставшись вдвоем, пажи, не слезая с коней, осмотрелись кругом, но не нашли ничего, достойного их внимания, кроме нескольких десятков крестьян с изможденными лицами, жмущихся к стенам.
Солнце меж тем пекло вовсю; наступило самое жаркое время суток. Парижанин воскликнул наконец:
– Черт меня побери! В этом замке совсем не соблюдают законов гостеприимства! Я хочу пить, и хочу, чтоб мне принесли вина, и самого лучшего!
– А жареную пулярку не хочешь? – протянул с ухмылкой нормандец. – Ты что, не видишь, Жан-Жак, что люди здесь истощены, как голодные собаки?
Он спрыгнул с коня и, бережно свернув знамя с черной розой, прислонил его к стене. Затем снял плащ и, расстелив на камнях, уселся на него.
– Ну и жара!.. Я, пожалуй, вздремну, – сказал он.
Второй оруженосец остался сидеть на лошади. Он был одет весьма модно, элегантно и даже роскошно, -поверх алого цвета верхней рубашки-котты с узкими рукавами, на которых были нашиты золотые пуговицы, на Жан-Жаке был парчовый плащ-сюрко ярко-бирюзового цвета, расшитый золотым позументом. На голове его была зеленая шапочка, украшенная фазаньими перьями, приколотыми драгоценной сапфировой брошью. На поясе вместе с мечом у него висел кинжал с серебряной рукоятью в ножнах, украшенных драгоценными камнями. По-видимому, юноша был отпрыском богатого рода.
Так как делать было нечего, Жан-Жак вытащил из ножен свой кинжал и, с нежностью проведя пальцем по острому лезвию, начал тренироваться, перебрасывая его из одной руки в другую, стараясь делать это как можно быстрее.
– Ну и ловко у тебя получается! – сказал ему, зевая, нормандец.
– Я упражняюсь каждый день, Жерар, – отвечал ему Жан-Жак. – Одинаково хорошо владеть оружием обоими руками очень важно для рыцаря, особенно в пешем поединке! Ты ленив и неуклюж, а я когда-нибудь стану таким же непобедимым рыцарем, как монсеньор герцог!
– Ну, это вряд ли… Монсеньор учился и у итальянцев, и у испанцев, – а они, как говорят, лучшие мастера!
– Недавно герцог показал мне один прием… Смотри! Надо вот так перебросить клинок из правой руки в левую… и вот так нанести удар! Здесь все дело в быстроте и неожиданности для противника! Монсеньор сказал, что этому удару он научился у одного венецианца, и что мало кто сможет отразить его.
– Да, хитроумно, – снова зевнув, довольно равнодушно согласился его товарищ. Он уселся поудобнее, прислонился головой к древку знамени и закрыл глаза.
Жан-Жак продолжал свою тренировку; но неожиданно его внимание отвлекла странная процессия, показавшаяся из-за угла крепостной стены.
Впереди с важным видом шли две белокурые девочки в одинаковых голубых платьицах, лет десяти и одиннадцати; одна из них несла в руке длинную палку, к верхушке которой были привязаны за лапки пять голубей со свернутыми шеями. За девочками шествовали трое мальчишек-подростков, одетых в домотканые льняные рубашки и штаны, изрядно перепачканные грязью. На поясе у каждого мальчика в веревочных петлях болтались заостренные палки, отдаленно напоминающие мечи; на голове одного из подростков была шапочка с петушиными перьями и, в отличие от своих босых приятелей, он был обут в сапожки из мягкой белой кожи.
Все трое имели весьма победоносный и гордый вид. За ними следовала толпа детей, от трех до десяти лет, одетых совсем в лохмотья, смеющихся и галдящих, как стайка воробьев.
– Николь и Анжель! – звонко крикнул мальчик в шапочке. – Несите эту великолепную дичь на кухню, и пусть старуха Жанна немедленно зажарит её! И скажите ей, чтоб вам она дала по два крылышка, мои маленькие ангелочки!
Девочки с голубями, а за ними остальные детишки бросились к кухне. Подростки, смеясь, смотрели им вслед.
– А я хочу грудку, – произнес, облизываясь, один из них, самый рослый парень.
– Ну уж нет, Пьер! – живо возразил ему мальчик в шапочке. – С чего бы, черт тебя возьми, тебе получать самый лакомый кусок?
– А кто вам напомнил, что на заднем дворе, где сложили поленницу, был месяц назад рассыпан мешок с пшеницей, и надоумил вас разобрать её и найти зерна, чтобы приманить голубей?
– Верно; но ведь трудились-то мы там все вместе, и здорово, кстати, перепачкались! – рассудительно сказал второй паренек, очень смуглый и щуплый. – К тому же, если бы мы решили стрелять по голубям из лука, как хотели вначале, мы подбили бы одну, ну – двух птиц, а остальных бы спугнул; а идея Дом взять сеть и накинуть на голубей сверху оказалась просто гениальной!
– Смерть Христова, Филипп, – сказал мальчик в шапочке. – Кто бы мог подумать, что сворачивать шеи этим милым птичкам окажется таким приятным занятием! – И он плотоядно улыбнулся.
– Ну, не грудку, так хоть крылышко, – не сдавался рослый Пьер. – Я это заслужил, Дом!
– В замке полно детей гораздо младше тебя, и есть они хотят не меньше! – жестко ответил ему мальчик по имени Дом – хоть и самый низкорослый, именно он, судя по всему, главенствовал в этой компании. Немного смягчившись, он добавил: – Не переживай, Пьер! Скоро мы все наедимся вдоволь! Осада не продлится долго! Сегодня утром мой отец сказал Бастьену, что он с часа на час ждет подкрепления из Монсегюра! А граф Монсегюр – самый сильный, ловкий и отважный воин в Лангедоке! Он разобьет проклятую Черную Розу, отрубит этой скотине голову и водрузит её над воротами Руссильона! – И синие глаза этого дерзкого юнца сверкнули холодной ненавистью.
– Аминь! – с надеждой ответили его приятели.
И тут мальчик в шапочке оглянулся – и увидел оруженосцев герцога – спящего Жерара и Жан-Жака, который все ещё сидел верхом и, поняв, что его заметили, опять принялся играть со своим кинжалом.
– Откуда, черт возьми, взялись эти двое? Ведь замок осажден, – сказал Дом, – и что это ещё за разряженный попугай?
И вся троица с удивлением уставилась на Жан-Жака, делавшего вид, что не обращает на них никакого внимания. Если бы он понял, что сказал про него и про его господина мальчик в шапочке, то вряд ли стерпел бы такое оскорбление, – но подростки говорили на окситанском языке, неизвестном ему – жителю центральной Франции.
– Когда мы ловили голубей, – сказал смуглый Филипп, – я слышал звуки трубы. Наверное, в замок явилось посольство…
А Дом, между тем, увидел коня Черной Розы.
– Кровь Господня! – воскликнул он в восхищении. – Что за красавец!
– Да, таких коней и на графской конюшне не сыщешь, – согласился Пьер.
– Такой жеребец самому королю впору! – выразил свои чувства и Филипп, которому само его имя должно уже было внушать любовь к лошадям.
Дом между тем продолжал с видом знатока рассматривать коня.
– Надо выяснить, кто же на нем приехал, – наконец, решил он, – спрошу у этого разряженного пугала.
И, подмигнув приятелям, он подошел к лошади, на которой сидел Жан-Жак, и обратился к пажу с весьма вежливой речью, перейдя на прекрасный французский язык:
– Приветствую вас в Руссильонском замке, добрый господин! Не будете ли вы так любезны сказать, кому принадлежит этот великолепный жеребец?
Жан-Жак с презрительным удивлением воззрился на дерзкого мальчишку-деревенщину, который умел, однако, так изысканно выражаться. У юнца было загорелое веснушчатое лицо, на котором ярко сияли большие синие глаза в обрамлении длиннющих ресниц; из-под его шапки выбивались спутанные рыжие кудри.
Нос и подбородок Дома были испачканы засохшей грязью; рукава рубашки закатаны, и на правой руке от запястья до локтя тянулся свежий, только начавший заживать порез.
Держался этот мальчишка непринужденно, а за его видимой почтительностью оруженосцу герцога почудилась скрытая насмешка.
Но восхищение жеребцом Черной Розы было, несомненно, искренним; и Жан-Жак сказал, не отвечая, впрочем, на приветствие:
– Это конь моего господина, монсеньора герцога Черная Роза. Его зовут Сарацин.
Паж никак не ожидал, что слова его вызовут такой эффект: рот юнца вдруг исказился, лицо побледнело так, что даже веснушки на нем стали серыми; он судорожно схватился рукой за длинную палку на поясе и, задыхаясь от злобы, воскликнул:
– Что?!! Смерть Христова! Не может быть! Это ложь!
Неожиданная ярость этого деревенского простофили, видимо, насмешила Жан-Жака. Но он не привык, чтобы его слова ставили под сомнение.
– Кто посмел сказать, что я лгу? – надменно произнес он и, соскочив с коня, подошел к своем спящему в обнимку с о знаменем товарищу, выхватил последнее из его рук и, развернув, продемонстрировал Дому герб и девиз Черной Розы.
– Et post Mortem Constantia est… – прочитал мальчишка, к изумлению Жан-Жака, по-латыни и тут же перевел на французский: – И после смерти – постоянство…
Он недоверчиво поднял свои потемневшие синие глаза на все еще спокойного пажа, как бы не в силах осознать происшедшее. Но вдруг ярость Дома прорвалась с новой силой; не в силах справиться с собой, он с невнятным криком выхватил из веревочной петли на боку свою заостренную палку – и рубанул наотмашь по герцогскому знамени.
Бархатная ткань с треском порвалась, – так силен был удар, – и стяг расстелился на камнях двора; черная роза и девиз герцога оказались под ногами Дома, и он стал с ненавистью топтать эти загадочные символы своими белыми сапожками.
– Ты… что ты делаешь, гнусный мерзавец?!! – закричал ошарашенный Жан-Жак, оцепеневший в первую секунду от неожиданности и растерянности. Его товарищ Жерар, проснувшийся, но еще не совсем пришедший в себя, с выпученными глазами и открытым ртом смотрел на поругание гордого стяга Черной Розы. Пьер и Филипп тоже стояли не двигаясь, видимо, изумленные этой дикой выходкой своего друга.
– Вот, вот и вот! – крикнул Дом, топча бархат своими сапожками. – Вот так надо поступать с теми, кто грабит, насилует и убивает невинных! – он был в полном исступлении. – И ваш подлый герцог, и вы – все вы грязные собаки, и вас надо повесить на первом же столбе!
– Ах… ах ты, скотина! – Побагровел от бешенства Жан-Жак. – Ты слышишь, Жерар?.. Ты слышишь, что эта свинья сказала о монсеньоре?
Но взгляд тугодума Жерара был прикован к несчастному куску бархата, превратившемуся, благодаря стараниям Дома, в грязную тряпку. Ещё никогда герб Черной Розы не подвергался такому беспримерному унижению!
– О всемогущий Боже! – в ужасе пробормотал нормандец, – монсеньор убьет меня за знамя…
…Наконец, Жан-Жак вышел из ступора. Судорожно схватившись за рукоять меча и наполовину вытащив его из ножен, он бросился на Дома с криком:
– Сейчас я вгоню эти слова прямо в твою гнусную пасть!
А тот и не собирался отступать. Размахивая своей деревянной палкой, он, по-видимому, пребывал все еще в состоянии слепого бешенства и не осознавал, что в руках у него не настоящее оружие, и что одного удара стальным клинком будет достаточно, чтобы разрубить напополам и палку, и его самого. Друзья Дома бросились ему на помощь, также достав свои почти игрушечные"мечи».
Но тут и Жерар все-таки опомнился. Зная ловкость и силу юного парижанина, он не сомневался, что тот легко одолеет всех троих. Он схватил друга за рукав и крикнул:
– Жан-Жак!.. Что ты делаешь?!! Ты же убьешь их!
Возможно, это не остановило бы оруженосца герцога; но новое соображение пришло ему в голову. Он вдруг вложил свой меч обратно в ножны и с невыразимым презрением посмотрел на довольно жалкую троицу с деревянными палками в руках.
– Ты прав, Жерар, – сказал он, – негоже благородному дворянину пачкать свой меч этой грязной кровью… Но граф де Руссильон узнает о том, что сделали его сервы*, и их засекут до смерти!
– Это кого ты называешь сервом? – вдруг взвился Дом. – Я – Доминик де Руссильон! Мой отец – граф Шарль де Руссильон!
– Сын графа?.. Скорее, графский ублюдок, – ухмыльнулся Жан-Жак.
– Ах ты подлец! – закричал Дом и, вырвавшись из рук друзей, которые пытались остановить его, подбежал к пажу герцога и наотмашь ударил его по лицу – да так, что кровь хлынула из носа Жан-Жака на его бирюзовое сюрко.
– Ну, мерзавец… Ты мне за все это дорого заплатишь! – зарычал разъяренный оруженосец.
Казалось, вид крови привел Дома в чувство; он неожиданно успокоился и уже довольно спокойно повторил, прибавив формулу, обязательную для рыцарского поединка:
– Я – Доминик де Руссильон. Я клянусь честью, что четыре поколения моих предков были свободными людьми. И я тебя вызываю сразиться со мной!
Наблюдавшие поначалу эту сцену крестьяне давно уже попрятались кто куда, боясь попасть под руку разгневанным господам, – и на дворе замка никого теперь не осталось, кроме Дома, его двух друзей и пажей герцога.
Слова Дома прозвучали в полной тишине и вдруг отрезвили всех пятерых подростков. Тяжело дыша, веснушчатый мальчишка и размазывающий по лицу кровь из носа парижанин мерили друг друга угрюмыми взглядами.
– Я принимаю твой вызов, Руссильон, – наконец, сказал Жан-Жак. – И, клянусь Спасителем, ты не увидишь сегодня заката солнца!
Он обернулся к Жерару:
– Дай ему свой меч. Деревяшкам не место на настоящем поединке!
Пьер и Филипп в это время что-то шептали на ухо Дому, который яростно мотал головой.
– Это сумасшествие, Доминик! – наконец, воскликнул Филипп. – Я немедленно скажу все графу!
– Только попробуй! – сверкнул на него глазами мальчик. – И нашей дружбе конец навсегда!
– Что ж, господа, – сказал он Жерару и Жан-Жаку, – здесь, на дворе, драться неудобно, -нас могут увидеть и помешать нам. Но на крепостной стене есть прекрасное место. Там ровная широкая площадка, подходящая для нашего боя. Предлагаю пойти туда.
Жан-Жак кивнул; но его друг сказал:
– А как же конь герцога и наши лошади?
– Поскольку нас трое, а вас всего двое, будет честным, если здесь останется один из моих друзей, – промолвил Дом. – Пусть Пьер посторожит лошадей, пока мы… пока не вернется тот, кто победит, – мрачно закончил он.
– Справедливо, – сказал Жан-Жак. – И если твой друг, Руссильон, захочет помочь тебе и вступить в схватку – Жерар возьмет его на себя!
– Но у меня же не будет меча! – возразил нормандец.
– Я дам тебе свой кинжал, а ты дашь свой другу Руссильона. В таком случае вы будете одинаково вооружены, так же как и мы.
И четверо мальчиков направились к лестнице, ведущей на крепостную стену.
Пока они поднимались по крутым ступеням наверх, идущие впереди Дом и Филипп вели между собой разговор на окситанском языке.
– Одумайся, Дом, остановись! – сказал очень бледный Филипп. – То, что ты делаешь, – безумие! Оскорбление нанесено тобой и, возможно, если ты извинишься…
– Извиниться? Кровь Господня! Да никогда в жизни! Я могу повторить тысячу раз все, что было сказано мною! Герцог Черная Роза – чудовище, монстр, заливший вместе с Монфором кровью невинных весь Лангедок! Он – убийца, насильник женщин и детей, гнусная, омерзительная скотина! И эти двое вполне под стать своему господину…
– О Боже, если бы я остался с лошадьми… – пробормотал как бы про себя Филипп.
– Да, я прекрасно знаю, что ты бы сразу бросился к моему отцу. Поэтому внизу и остался Пьер, – он-то не предаст меня, как сделал бы ты.
– Послушай, Дом. Этот оруженосец выше тебя и явно сильнее… И потом, потом он… он…
– Ну, договаривай! – гневно промолвил Дом. – Он – мужчина, ты это хотел сказать? А кто я? В его глазах я – жалкий мальчишка, деревенский увалень, умеющий размахивать только деревянной палкой! Но я заставлю его изменить обо мне мнение! Он не знает, что мой отец давал мне уроки с трех лет, не знает, что я и с вами каждый день упражняюсь по нескольку часов… Не знает, что сам граф де Монсегюр – лучший меч Лангедока! – сказал, что я – достойный для него противник, и что только мужской силы не хватает моим рукам, а в ловкости и проворстве мне нет равных!
– О чем это они там переговариваются? – спросил Жерар Жан-Жака.
– Видимо, совещаются, какую тактику выбрать в поединке, – насмешливо отвечал его друг. – Щенок, конечно, не трус. Но вряд ли этот деревенщина знает больше пяти самых простых приемов! Вот увидишь – я уложу его на первой же минуте! И, на крайний случай, – прибавил он с кровожадной радостью, – у меня есть ещё венецианский удар монсеньора!
– Жан-Жак! Убивать сына графа де Руссильон, в его собственном замке… это очень плохо пахнет!
– Ты что, не помнишь, что говорили монсеньор и граф де Брие о Руссильоне? У него нет сыновей, одни дочери!
– Тогда… тогда как же этот мальчишка называет себя графским сыном… и как ты ему поверил? Ты же не можешь драться неизвестно с кем! – недоумевающе воскликнул Жерар.
– Ты не понимаешь, простак? – ухмыльнулся парижанин. – Этот щенок – графский ублюдок, прижитый им от какой-нибудь замковой потаскухи! И, голову даю на отсечение, у Руссильона он не один – наверняка, целая дюжина. Так что невелика потеря. А я решил все-таки биться с ним, потому что он, во-первых, страшно оскорбил меня и монсеньора, и, во-вторых, в этом юнце все-таки течет графская кровь – пусть и наполовину!
Но вот мальчики вышли на площадку, о которой говорил Дом. Она была прямоугольная, около двадцати туазов* длиной и десяти-шириной, и представляла идеальное место для предстоящего поединка. С площадки открывался чудесный вид на цветущие отроги Пиренеев; слева высилась башня донжона, которая служила жилищем уже нескольким поколениям Руссильонов. На площадку выходило всего одно окно, и оно привлекло внимание Жан-Жака.
– Что это за окно? – подозрительно спросил он. – Нас могут увидеть оттуда и помешать нам.
– Это окно комнаты моих младших сестер, Мари-Николь и Мари-Анжель, – отвечал Дом. – Они сейчас на кухне, где кухарка жарит голубей, и не скоро вернутся к себе.
Жан-Жак успокоился. Он снял свое сюрко и бережно сложил его на камнях парапета, оставшись в своей алой рубашке-котте, рукава которой он засучил выше локтей. Затем, опустившись на колени, он прочитал» Отче наш» и поцеловал висевшее на груди золотое распятие. Дом последовал его примеру и тоже прочитал молитву; ибо оба мальчика чувствовали, что только один из них покинет площадку живым.
…Теперь, когда поединок был близок и неминуем, оба соперника стали серьезны и сосредоточены. Встав с колен и беря в руки мечи, они обменивались оценивающими взглядами. Впрочем, Жан-Жак был полностью уверен в своем превосходстве; хотя ему и не приходилось еще убивать противника в подобном поединке, он был – много раз – свидетелем подобного, и никогда ни жалость к побежденному, ни ужас при виде предсмертных мук не трогали его кровожадное сердце. Разглядывая сейчас невысокого, тоненького, почти хрупкого Дома, оруженосец Черной Розы даже досадовал, что в первом серьезном бою ему достается такой слабый и неумелый противник.
Однако, когда Дом взял в руку длинный обоюдоострый одноручный меч и несколько раз ловко перекинул из правой руки в левую, примеряясь к его тяжести и проверяя баланс и центровку клинка, Жан-Жак невольно насторожился.
Но вот мальчики встали в боевую стойку – и поединок начался. Оруженосец герцога сразу пошел в наступление, делая неуловимо быстрые выпады. Дом отступил, почти не парируя; но, как заметил паж, отступил так, чтобы Жан-Жак повернулся лицом к солнцу.
«Хитрый, щенок!» – подумал юный парижанин; но подобная тактика была ему хорошо известна, и он не купился на эту уловку. Он теснил Руссильона к парапету, стремясь зажать юнца в угол, так как понимал, что тому не по силам ближний бой. Дом же стремился к схватке на расстоянии, потому что в ней нужны были больше быстрота и ловкость, а именно эти качества давали сыну Руссильона некоторое преимущество перед явно сильнейшим противником. Парируя удары Жан-Жака, мальчик ускользал в сторону, не давая прижать себя к стене, выжидая и одновременно экономя силы, зная, что в бою с тяжелым мечом они терялись очень скоро.