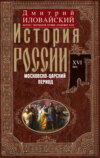Kitabı oku: «История России. Московско-царский период. XVI век», sayfa 13
С польско-литовским королем, по истечении перемирия, опять возобновились переговоры о вечном мире, но опять неудачно, вследствие литовских притязаний на уступку областей. Однако престарелый Сигизмунд I не желал новой войны и согласился возобновить перемирие в 1542 году. Но еще прежде его заключения в Москве вновь совершилась внезапная перемена правительственных лиц.
Доброе управление Ивана Бельского продолжалось всего около полутора лет (с июля 1540 г. по январь 1542 г.). Мы видели, что он не только не пытался лишить свободы своего врага и соперника Ивана Шуйского, но и дал ему начальство над войском, стоявшим во Владимире для обороны пределов со стороны Казани. Сторона Шуйских коварно воспользовалась таким добродушием. В Москве действовали за него князья Кубенский, Палецкий, многие дворяне и дети боярские, особенно происходившие из Новгорода, который исстари был предан фамилии Шуйских. В Москве составился большой заговор против Бельского. Заговорщики тайно вошли в сношения с Шуйским и назначили ему 3 января для внезапного приезда в столицу. Он так и сделал; а еще до его приезда ночью прискакали его сын и боярин Шереметев с 300 человек дружины и тотчас схватили Бельского. Его сослали на Белоозеро и там вскоре умертвили; нескольких приверженных к нему бояр также разослали по городам; причем князя Петра Щенятева взяли из комнаты самого государя, куда проникли задними дверями. Митрополит Иоасаф, в ту ночь разбуженный нападением заговорщиков, которые бросали камни в его келью, также искал спасения во дворе; но те вслед за ним ворвались в самую спальню великого князя, которого разбудили и напугали своим шумом. Иоасаф отсюда уехал на Троицкое подворье; но и туда явились за ним новгородские дети боярские и едва не убили; его спасли князь Палецкий и троицкий игумен Алексий, именем св. Сергия заклинавший заговорщиков не совершать такого святотатственного убийства. Кончили тем, что Иоасафа сослали в Кириллов Белозерский монастырь; а на кафедру митрополичью возвели новогородского архиепископа Макария, так как Шуйские имели на своей стороне по преимуществу новгородцев и еще прежде находились в дружеских отношениях с Макарием. Любопытно, что брат Ивана Бельского Дмитрий по-прежнему не был тронут и сохранил свое место в думе. Но замечательна недолговечность и непрочность лиц, захватывавших власть в эту эпоху. Едва Иван Шуйский снова водворился у кормила правления, как в том же 1542 году он уже сошел со сцены, и о нем более нет помину; из сего выводят заключение о его смерти. Однако и после него власть осталась в руках его родственников; из них первенствующее значение в думе получил Андрей Михайлович Шуйский, тот самый, который отличился своими грабительствами и притеснениями в Пскове. Но и он недолго пользовался своим значением: его буйный, строптивый нрав вскоре вызвал на сцену действия подрастающего Ивана IV, будущего Грозного царя30.
Иван IV остался трехлетним ребенком после своего отца; ему шел восьмой год, когда он лишился матери и стал расти под непосредственными впечатлениями эпохи боярских партий, исполненной всяких тревог и опасностей. При частой смене правителей, естественно, некому было заботиться о его воспитании, и царственное дитя, можно сказать, было предоставлено самому себе. Большая часть этой эпохи занята была господством Шуйских, и они-то по преимуществу виновны в небрежном воспитании мальчика и в дурном с ним обращении. На это грубое обращение впоследствии горько жаловался сам Иван IV; он говорит, что нередко с братом своим терпел голод, пока соберутся их накормить. Любимых им людей у него отнимали и отправляли в тюрьму или в заточение, несмотря на его просьбы и слезы: например, мамку его Агриппину, ее брата Телепнева-Оболенского, Ивана Бельского, митрополитов Даниила и Иоасафа. Мы видели, что последний не мог найти спасения от своих врагов в самой спальне юного государя (а под руководством сих митрополитов он, конечно, начал свое обучение грамоте и Закону Божию). Меж тем мальчик не мог не знать, что все правительственные акты совершались его именем: при больших церковных праздниках, при приеме иноземных послов и при разных торжествах он являлся на главном месте, окруженный почетом и блестящей боярской свитой, что, конечно, вселяло в него высокое о себе понятие. От природы Иван IV был, очевидно, впечатлителен и даровит, что, может быть, обусловливалось отчасти и самым происхождением его с женской стороны: бабушка его была греко-итальянка, а мать литво-русинка. Грубое обращение при его нервности и впечатлительности естественно ожесточало его сердце. Признаки жестокосердия появились у него очень рано. Сначала это жестокосердие упражнялось над животными: так, мальчику, например, доставляло удовольствие бросать животных с высокого терема на землю и любоваться их муками. А когда он стал приходить в возраст, то стал уже забавляться испугом и страданиями людей. Собрав вокруг себя толпу сверстников из сыновей московской знати, он верхом скакал с нею по улицам и торговым площадям, давил и бил встречающихся мужчин и женщин; упражнялся и в других неблагопристойных деяниях. А ласкатели раболепно восклицали: «О, храбр будет сей царь и мужествен!» Бояре-правители не только не препятствовали подобным забавам, но и поощряли их, желая как можно долее отвлекать внимание отрока от дел государственных. С той же целью поощряли занятие псовой и соколиной охотой, к которой Иоанн пристрастился также с ранних лет. Но в то же время Шуйские ревностно наблюдали за тем, чтобы кто-либо из бояр помимо их не сделался близок к юному государю и не приобрел на него влияния.
Иоанну исполнилось тринадцать лет, когда он стал оказывать особое расположение к боярину Федору Семеновичу Воронцову (брату помянутых выше Михаила и Дмитрия Семеновичей) и держать его в приближении. Недолго думая, в сентябре 1543 года трое Шуйских (братья Андрей и Иван Михайловичи и Федор Иванович Скопин) со сторонниками своими, князьями Кубенским, Пронским, Шкурлятевым, Палецким и другими, вследствие какого-то спора напали на Федора Воронцова в самой думе боярской, собравшейся в Столовой избе, в присутствии великого князя; вытащили его в другую комнату, начали бить по щекам, изорвали на нем платье и хотели убить. Государь послал к ним митрополита и бояр Поплевиных-Морозовых с просьбой, чтобы не убивали. Шуйские исполнили эту просьбу; но, когда потом Иван просил послать Федора Воронцова с его сыном в Коломну, правители не согласились и сослали Воронцовых в Кострому. Во время сих переговоров, когда митрополит ходил уговаривать Шуйских, один из его приспешников, Фома Головин, дерзко наступил на мантию митрополита и разорвал ее. Юный великий князь был сильно возмущен таким своеволием Шуйских; но, затаив жажду мести, через неделю выехал с братом Юрием и некоторыми боярами в обычное осеннее путешествие в Троице-Сергиев монастырь, откуда отправился в Волок Ламский и Можайск, по примеру отцовскому соединяя богомолье с охотой. Через две недели он воротился и еще около двух месяцев не обнаруживал своего замысла, который созрел в нем, вероятнее всего, под влиянием его дядей, двух князей Глинских. А в конце декабря, на святках, он, улучив минуту, внезапно велел схватить «первосоветника» князя Андрея Шуйского и отдал его своим псарям; те повлекли его к тюрьмам и дорогой убили против кремлевских Ризположенских ворот. Некоторых второстепенных сторонников его, в том числе Фому Головина, разослали в заточение. Это первое решительное проявление самовластия и показало всю силу московского самодержавия. С той поры, прибавляет летопись, «начали бояре от государя страх имети и послушание».
Но за сим началом пока не последовало больших перемен в управлении. Иоанн был еще слишком молод и неопытен, чтобы самому стать в его главе. В правительственной думе Шуйских, по-видимому, сменили его дядья Глинские. А сам великий князь по-прежнему предавался своим забавам; только время от времени изрекал опалы и подвергал наказаниям некоторых бояр, особенно из сверженной партии Шуйских. Так, подверглись опале князья Кубенский, Петр Иванович Шуйский, Александр Горбатый, Палецкий; Афанасию Бутурлину отрезали язык за невежливые слова. В числе опальных встречается и прежний любимец Ивана IV Федор Воронцов, которого он поспешил воротить из ссылки. Другие бояре, особенно Глинские, завидовали Воронцову и воспользовались первым удобным случаем от него отделаться. В мае 1546 года пришли вести о близком нашествии крымского хана. Великий князь сам выступил с войском в Коломну. Но вести оказались ложными; хан не приходил. Однажды государь выехал за город на прогулку. Тут встретила его толпа новгородских Пищальников и начала о чем-то бить челом. Иоанн не пожелал их слушать и велел своим дворянам прогнать их. Пищальники заупрямились и стали бросать грязью и шапками; отсюда разгорелась драка; от грязи ослушники перешли к ослопам и выстрелам; а дворяне пустили в дело луки и сабли; с обеих сторон по нескольку человек было убито. Иоанн не мог приехать прямо в свой стан и должен был воротиться окольными дорогами. Разгневанный, он поручил приближенному своему дьяку Василию Захарову разведать, кто подучил Пищальников. Захаров, неизвестно на каком основании, донес государю, что виновны в этом деле князь Иван Кубенский и Федор Воронцов со своим родственником Василием. Иоанн поверил дьяку и велел всем троим отрубить головы; причем им поставлены в вину их прежние мздоимства и проступки в делах государских и земских. К тому же времени относятся и казни некоторых других бояр и княжат, каковы: Трубецкой, Дорогобужский, Овчина-Оболенский (сын известного Ивана Федоровича) и прочие. В эту пору своей юности Иоанн часто разъезжал по областям своего государства; посещал монастыри и особенно занимался охотой. Такие поездки дорого обходились местному населению, доставлявшему подводы и корм для многочисленной государевой свиты, и возбуждали народный ропот. Так, псковский летописец, сообщая о поездках Иоанна в Новгород, Псков, Печерский и Тихвинский монастыри в декабре 1547 года, прибавляет: «Не управил своей отчины ничего князь великий, а все гонял на мсках (на ямских), а христианам много протор и волокиты учинили».
Воротясь в Москву из последней поездки, Иоанн вдруг объявил митрополиту Макарию свое намерение жениться. Митрополит по сему поводу служил торжественный молебен в Успенском соборе. Затем великий князь созвал бояр и держал к ним речь о том же своем намерении. При сем он прямо говорил, что сначала хотел было искать невесту в ином царстве, но потом эту мысль отложил; ибо иноземная жена имела бы с ним разные «норовы», отчего происходила бы между ними «тщета», а потому он решил «жениться в своем государстве». Хотя летопись и замечает, что митрополит и бояре от радости заплакали, видя, что такой молодой государь ни с кем не советуется, а действует по внушению Промысла Божия, но едва ли на его решение не повлиял тот же митрополит Макарий. По всей вероятности, государю при сем указано было на примеры отца и деда, которых женитьба на иностранках произвела большие толки и неудовольствие на введение иноземных обычаев; а главное, иноземная невеста означала иноверку, ибо трудно тогда было найти иноземную принцессу православной веры. Но то было не единственным намерением государя. Тут же он объявил боярам, что еще прежде женитьбы он хочет венчаться на царство по примеру своих прародителей начиная от великого князя Владимира Мономаха. Это торжественное венчание совершено было 16 января митрополитом в Успенском соборе по тому же чину и почти с теми же обрядами, как помянутое выше венчание Димитрия, внука Ивана III. Оно замечательно особенно в том отношении, что к прежнему титулу великого князя Иоанн присоединил теперь титул царя. Последний уже встречался при его дяде; уже отец его Василий приказывал именовать себя царем. Но с сего времени, то есть со времени Иоаннова коронования, употребление сего титула сделалось постоянным во всех государственных актах. Книжные люди не преминули обратить внимание на эту перемену и придавали новому титулу большое значение. По их понятиям, московский царь является прямым преемником православных царей греческих, от которых происходит и по бабке своей Софье, и по прародительнице Анне, супруге Владимира Святого. А царство Российское, как они толковали, есть Третий Рим, наследник двух прежних («два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть»). Как бы в подтверждение сих толкований, единственный авторитет, к которому Иоанн потом обратился за подтверждением своего нового титула или, собственно, за благословением, был цареградский патриарх; от него и была получена утвердительная грамота.
Относительно выбора невесты Иоанн повторил тот же способ, который был употреблен при первой женитьбе его отца Василия III и который существовал еще у византийских императоров. По городам разосланы грамоты к боярам и детям боярским с приказом представить своих детей или родственниц – девиц на смотр наместникам; последние из них выбирали лучших и отсылали в Москву; а здесь между ними уже сам царь выбирал себе невесту. Из толпы собранных красавиц Иван Васильевич выбрал Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву. Она происходила из рода Андрея Кобылы, известного московского боярина времен Симеона Гордого. Сей род с течением времени весьма разветвился, так что насчитывают более 20 происшедших от него боярских и дворянских родов, каковы, кроме Захарьиных-Юрьевых, Жеребцовы, Шереметевы, Беззубцевы, Зубатые, Колычевы, Ляцкие, Кобылины, Ладыгины, Неплюевы и прочие. Внук Андрея Кобылы, Иван Федорович Кошкин (любимец Василия I), имел в числе своих сыновей Захарию; один из сыновей этого Захария Кошкина Юрий был боярином Ивана III, и его дети назывались Захарьины-Юрьевы. Старший сын его Михаил Юрьевич, как мы видели, находился в числе наиболее приближенных бояр Василия III. Другой сын, Роман Юрьевич, носил звание окольничего. Оба они уже умерли; в живых оставался третий сын Григорий Юрьевич. Роман Юрьевич оставил после себя вдову Юлиану Федоровну с двумя сыновьями, Даниилом и Никитой, и двумя дочерьми, Анной (вышедшей замуж за князя Сицкого) и Анастасией, на которую пал выбор царя Ивана. Свадьба их совершилась 3 февраля в Успенском соборе. Венчал митрополит Макарий. После венчания он произнес к новобрачным слово, в котором увещевал их прилежать к церкви и соблюдать веру, творить милостыню, заступаться за вдов и сирот, не слушать льстецов и злых наветов, бояр и детей боярских жаловать, чтить праздники, в посты хранить чистоту телесную и так далее. Свадьба Ивана IV была справлена по тому же чину и сопровождалась теми же обрядами, как и помянутая выше женитьба отца его Василия на Елене Глинской. При сем место посаженой матери занимала вдова Андрея Старицкого княгиня Евфросиния, а тысяцким был сын ее Владимир Андреевич. Родной брат Ивана IV Юрий «в первый день сидел за столом в большом месте». Один его дядя по матери, Михаил Васильевич Глинский, имевший звание конюшего, ездил всю ночь около подклети, а другой дядя, Юрий Васильевич Глинский, «слал постелю» и водил новобрачного в мыльню; причем в числе спальников великокняжьих упоминаются Алексий и Данила Адашевы и Никита Романович Юрьев, младший шурин царский. А старший шурин, Данила Романович Юрьев, участвовал в свадебном поезде в сане окольничего. По окончании свадебных празднеств, через две недели после венчания, царственная новобрачная чета, исполняя благочестивые обычаи предков, отправилась в Троице-Сергиеву обитель; причем царь совершил этот путь пешком, несмотря на зимнее время.
Летописцы прославляют Анастасию Романовну за ее добродетели; Иоанн сам впоследствии признавался, что нежно любил свою первую супругу. Однако не вдруг сказалось ее благое умиротворяющее влияние на его пылкую натуру и испорченные нравы. После царского венчания и брака Иоанн, по-видимому, продолжал вести беспечную жизнь, предоставляя правительственные дела по преимуществу дядьям Глинским, которые оказались не лучше своих предшественников Шуйских и также позволяли своим клевретам безнаказанно утеснять и грабить черных людей, чем возбуждали неудовольствия и ропот в народе. Нужны были сильные потрясения и бедствия, чтобы образумить молодого государя, толкнуть его на благой путь, и они не замедлили.
Пожары были обычным бедствием в Древней Руси и нередко опустошали столицу, при ее сплошных деревянных и беспорядочных постройках, местами разделенных садами и огородами, а местами тесно скученных, особенно в Кремле и Китай-городе. Но особенно сильны и опустошительны были пожары весной и летом 1547 года. 12 апреля выгорела часть Китай-города, примыкавшая к Москве-реке, с торговыми лавками, гостиными дворами и некоторыми церквами; причем одна башня, заключавшая склад пороху, взлетела на воздух с частью стены. 20 апреля сгорела часть посада около устья Яузы, на Болвановке, где жили гончары и кожевники. Иоанн, по-видимому, не особенно скорбел об этих народных бедствиях. В то время псковичи, утесняемые наместником князем Турунтаем Пронским, приятелем Глинских, отправили 70 человек с жалобами на него государю. 3 июня Иоанн принял их в подгородном сельце Островке; но жалобы их встретил с гневом, начал над ними издеваться, велел раздеть их донага, подпаливал им бороды зажженной свечой, потом приказал положить их на землю. Жалобщики уже ожидали казни, как вдруг из города прискакали с известием, что упал большой колокол Благовестник (висевший в Кремле на деревянной колокольнице): когда начали звонить в него к вечерне, уши у него отломились. Царь встревожился таким недобрым знамением и тотчас ускакал в город, чем прекратились дальнейшие истязания несчастных псковских жалобщиков. Упавший колокол оказался целым и неповрежденным; Иоанн велел приделать к нему железные уши, а потом вновь повесить на ту же колокольницу. Но вот 21 июня вспыхнул новый и самый страшный пожар. Он начался с церкви Воздвижения на Арбате за речкой Неглинной и спалил все Занеглименье. Поднялась буря, которая погнала огонь на Кремль; тут загорелся верх Успенского собора, кровли царских палат, казенный двор с царской казной, придворный Благовещенский собор с его драгоценными, украшенными золотом и бисером, иконами письма старого греческого и Андрея Рублева. Сгорела оружейная палата с воинским оружием, Постельная палата и погреба с царской дорогой утварью, царская конюшня, митрополичий двор. Погорели богатые кремлевские монастыри, Чудов и Вознесенский, с несколькими старцами и старицами. Почти все кремлевские дворы боярские выгорели. Одна башня с порохом также взлетела на воздух с частью стены. Отсюда огонь распространился на соседний Китай-город и истребил едва не все, что осталось от предыдущего пожара. На Большом посаде он опустошил еще улицы Рождественку и Мясницкую, Покровку, Варварку, Тверскую, Дмитровку и некоторые другие места, со многими храмами и монастырями, в которых погорело множество старых книг, икон и дорогой церковной утвари. При сем пожаре погибло до 1700 мужчин, женщин и детей. Летописцы замечают, что такого страшного пожара не бывало в Москве от самого ее начала.
Митрополит Макарий едва не задохся от дыма в Успенском соборе, откуда он собственноручно вынес образ Богородицы письма св. Петра митрополита. В сопровождении протопопа Гурия, который нес за ним Кормчую книгу, Макарий взошел на Тайнинскую башню; но от дыма не мог тут долго оставаться; его на канате стали спускать на набережную Москвы-реки; канат вдруг оборвался, и митрополит так ушибся, что едва пришел в себя. Его отвезли в Новоспасский монастырь. Царь с семьей своей и с боярами уехал из города за Москву-реку, в свое село Воробьеве. На следующий день он с боярами навестил больного митрополита в Новоспасском монастыре. Тут некоторые, в том числе и духовник царский, протопоп Благовещенского собора Федор Бармин, начали говорить царю, будто Москва сгорела от какого-то волшебства, посредством которого вынимали сердца человеческие, мочили их водой и той водой кропили город. Царь как бы внял такому грубому суеверию и неосторожно поручил боярам произвести розыск. Спустя несколько дней бояре приехали на Кремлевскую соборную площадь, собрали черных людей и начали их спрашивать: кто зажигал Москву? Черные люди, очевидно заранее подготовленные, закричали, что это княжна Анна Глинская со своими детьми волховала помянутым выше способом. На ту пору княжна Анна с сыном Михаилом находилась в своих ржевских поместьях; а другой ее сын Юрий стоял тут же среди бояр. Услыхав страшные слова, он поспешил укрыться в Успенский собор. Но толпа, наущаемая боярами, бросилась за ним, вытащила его из храма и, убив на месте, бросила его тело на торгу, где казнили преступников. Убийство Глинского было началом народного мятежа. Чернь бросилась после того на его двор, принялась грабить и бить насмерть его людей; причем погибло много детей боярских из Северской области, которых сочли за людей Глинских. На третий день после убийства мятежная толпа явилась в Воробьево и требовала от царя выдачи его бабки княгини Анны Глинской с сыном Михаилом, которых он будто хоронит в своих покоях. Иоанн велел своим дворянам схватить нескольких мятежников и немедленно их казнить. Толпа в страхе разбежалась. Мятеж был усмирен; но вместе с ним прекратилось господство Глинских. Князь Михаил Васильевич, узнав об участи брата, испугался и вместе с князем Турунтаем-Пронским хотел бежать в Литву; они были схвачены, но потом прощены и отданы на поруки; причем с Глинского сняли сан конюшего. Очевидно, против Глинских, как ненавистных временщиков, действовала целая боярская партия с помощью царского духовника Бармина. Во главе этой партии встречаем князя Федора Скопина-Шуйского; а прежнее господство Шуйских, как мы видели, было низвержено советом Глинских. К той же партии примкнул и дядя царицы Григорий Юрьевич Захарьин.
Однако после свержения Глинских ни Шуйские, ни Захарьины не явились во главе управления. Самыми приближенными к государю и самыми влиятельными людьми выступили два незнатных мужа: Сильвестр и Адашев.
Сильвестр происходил из Новгорода Великого и находился в числе священников придворного Благовещенского собора. Он был и прежде известен Ивану Васильевичу. Один современник говорит, что сей муж воспользовался страхом, в который повержен был юный царь народным мятежом после страшного пожара, и начал заклинать его Божьим именем, чтобы тот исправил свое поведение; приводил ему слова из Св. Писания и даже рассказывал ему о каких-то видениях и чудесах. Своими увещаниями он будто бы так поразил впечатлительную душу Иоанна, что в последнем совершился явный нравственный переворот: юный царь устыдился своих прежних поступков, смирился духом и подчинился влиянию простого иерея. Но вероятнее, что Сильвестр постепенно приобрел доверие и уважение царя благодаря своей начитанности и дару слова, а главное, своему уму и твердому характеру. В то же время в союз с Сильвестром выдвигается любимый Иоаннов ложничий или спальник Алексей Адашев, молодой человек, отличавшийся умом и привлекательным нравом. Благотворное влияние этих двух мужей поддерживает добродетельная супруга царя Анастасия. Заодно с ними, очевидно, действует и митрополит Макарий, который, вероятно, знал и уважал Сильвестра еще в Новгороде-Великом, а теперь способствовал его приближению к царю. С этого времени открывается краткая, но блестящая эпоха Иоаннова царствования, ознаменованная успехами во внутренних делах и во внешней политике. Сам царь очевидно умерил свою привычку к пустым забавам и проводил время или в заботах правительственных, или в походах и благочестивых путешествиях. А в свободное время он, вероятно под руководством тех же Макария и Сильвестра, углублялся в чтение душеполезных книг, каковы: творение отцов Церкви, жития святых, отечественные летописи и тому подобное. Впоследствии он любил блеснуть своей начитанностью и книжными сведениями, очевидно почерпнутыми в эту счастливую эпоху его жизни31.
Меж тем как царь, бояре и духовенство усердно заботились о восстановлении московских храмов и своих обгорелых палат, в царской семье справлены две новые свадьбы. Сначала Иоанн дал разрешение на брак своему младшему брату Юрию, а потом женил и двоюродного брата Владимира Андреевича. Любопытно, что в обоих случаях для выбора невесты употреблен был почти тот же способ, что и для царской свадьбы. Собрали девиц на смотр, но не со всего государства, а только дочерей княжеских и боярских в столице; из них царь вместе с женихами выбрал невест: Юрию Васильевичу княжну Ульяну, дочь князя Дмитрия Палецкого, а Владимиру Андреевичу девицу Евдокию, дочь Александра Нагого. Свадьбы эти были венчаны также митрополитом и пышно отпразднованы при дворе с теми же многочисленными обрядами и церемониями, как царская. Юрия с женой Иоанн поместил в собственном дворце и почти всегда держал его при себе. На важных правительственных грамотах стали писать: «Царь и великий князь с своей братией и с бояры (уложил)».
За сим последовал весьма важный шаг со стороны молодого государя: то был первый Земский собор или Великая земская дума, созванная в Москве в 1550 году для умиротворения государства, все еще глубоко возмущенного крамолами и неправдами боярского управления. Как царский титул употреблялся иногда прежними государями, но впервые был усвоен и введен в постоянное употребление Иоанном IV, так и собрания областных чинов в столице по какому-либо важному вопросу – собрания, заменившие и древние веча, и княжеско-дружинные съезды, – встречаются в прежние времена (например, перед первым походом Ивана III на Новгород); но настоящие земские соборы, или советы, начинаются на Руси с Ивана IV. Ближайшими образцами для таких советов, по-видимому, послужили соборы церковные, которые были весьма обычны в Древней Руси. И самая мысль о созвании земской думы едва ли не принадлежала митрополиту Макарию и священнику Сильвестру, вероятно, не чуждым новгородским вечевым преданиям. По крайней мере, из записи, составленной по сему поводу, говорится следующее: «Когда царь и великий князь Иван Васильевич достиг двадцатилетнего возраста, то, видя государство свое в великой скорби и печали от насилия и неправды, советовался с отцом своим Макарием митрополитом, как прекратить крамолы (боярские) и утолить вражду (т. е. ропот народный); после чего повелел собрать из городов людей всякого чину». Судя по последующим примерам, кроме столичных чинов из областей созваны были представители от духовенства, бояр, дворян, детей боярских, а также некоторые гости и купцы.
В один воскресный день, после обедни, государь и митрополит с крестным ходом, в сопровождении земской думы, вышли на площадь, где находился возвышенный помост, или так называемое Лобное место, окруженное густыми толпами народа. После молебна Иоанн, стоя на этом помосте, обратился сначала к митрополиту, и, прося быть ему помощником и поборником, сказал: «Сам ты ведаешь, святой владыка, как я остался от отца своего четырех лет, а от матери осьми лет. Бояре и вельможи о мне не радели и стали самовластны; именем моим сами похищали себе саны и почести, никто не возбранял им упражняться во многих корыстях, хищениях и обидах. Они властвовали, а я был глух и нем по своей юности и неразумению. О лихоимцы, хищники и неправедные судьи! Какой ответ ныне дадите нам за многие слезы, из-за вас пролитые? Я чист от крови сей, а вы ожидайте своего воздаяния».
Затем царь поклонился народу на все стороны и продолжал: «Люди Божии и нам дарованные Богом! Молю вашу веру к Нему и любовь к нам. Ныне уже невозможно исправить ваших прошлых обид и разорений от неправосудия и лихоимства, попущенных неправедными моими боярами и властями. Молю вас, забудьте вражды друг на друга и тяготы свои, кроме тех, какие бы еще можно облегчить. Отныне я сам буду вам судья и оборона, буду отменять неправды и возвращать хищения».
Помянутая запись прибавляет, что в тот же день государь поручил своему любимцу Алексею Адашеву принимать челобитные от обиженных и рассматривать их, не боясь сильных и славных. «Алексей, – говорил он, – взял я тебя из бедных и самых молодых людей за твои добрые дела, а взыскал тебя выше твоей породы в помощь душе моей, хотя на то и не было твоего желания». Вообще Иван IV в эти дни торжественно и красноречиво показывал, что время боярского самовластия миновало, что он берет в собственные руки судьбы управления, что в помощь себе избирает людей незнатных и небогатых, а на родовитых бояр как бы налагает опалу, чтобы удовлетворить возбужденному против них народному негодованию и в глазах народных провести резкую черту между государем и боярством. Не имеем права заподозрить Иоанна в неискренности; но несомненно, при сем случае ярко обнаружилась его даровитая, пылкая натура вместе с наклонностью к широковещательности и, если можно так выразиться, к некоторой сценичности в своих действиях.
Хотя источники не говорят нам, чем занимался этот первый Земский собор, однако имеем право предположить, что главным предметом его совещаний служили вопросы, связанные с улучшением судебных порядков. Отсюда непосредственным плодом его явилось новое издание судебного свода. Сам Иван IV после говорил (в предисловии к Стоглавнику), что он, по-видимому, на том же первом Земском соборе с разрешения митрополита и епископов уже простил боярам их прежние вины (за которые только что грозил воздаянием) и «тогда же» взял у владыки благословение «исправить по старине и утвердити Судебник». Здесь, конечно, разумеется судебный свод деда его Ивана III. И действительно, Судебник 1550 года есть не более как Судебник 1477 года, исправленный и дополненный, в смысле большего ограждения населения от судебных неправд и притеснений. Так, по новому Судебнику на суде наместника или волостеля земские люди в лице старост и целовальников не только присутствовали, но и прикладывали руки к судному списку, который писался земским дьяком, и этот список хранился у наместника; а противень с него, написанный наместничьим дьяком и снабженный печатью наместника, должен храниться у дворского старосты и целовальников. Далее, для разбойных и душегубных дел назначаются особые судьи, называвшиеся губными старостами. По прежнему Судебнику неделыцики и приставы могли не сами отвозить вызов на суд ответчику, а послать вместо себя своего родственника или знакомого; так как отсюда происходили разные злоупотребления, то новый Судебник определяет, чтобы каждый неделыцик имел у себя особых ездоков, записанных в книгу у дьяка, и только этих ездоков (официально признанных) он мог посылать, куда сам не был в состоянии ехать. Прежнее бессрочное право выкупа поземельного владения родственниками теперь ограничено сорокалетним сроком, и тому подобное. Вообще Судебник потом постоянно дополнялся разными указами и уставными грамотами. Первый такой дополнительный устав, изданный в том же 1550 году, относится к вопросу о местничестве, при начальствовании ратном. Он определяет взаимные отношения воевод пяти полков, то есть большого, передового, сторожевого, правой и левой руки, следовательно, как бы узаконяет их счет по родовой знатности; но княжатам и детям боярским приказывает «быть в полках с воеводами без мест», то есть не считаться с ними знатностью рода. Тогда же издано несколько уставных грамот, которыми распространялось в областях право городских и сельских общин самим, то есть через своих выборных людей, ведать судом по уголовным преступлениям.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.