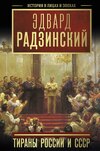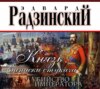Kitabı oku: «Последняя ночь последнего царя», sayfa 3
МАРАТОВ. Ты действительно работал фотографом до революции. Наверное, фотоаппарат вынес для убедительности?
ЮРОВСКИЙ. Да, откуда ж ему взяться?
МАРАТОВ. Ну зачем – неправду, товарищ… Помнишь, тетрадь, в которую караул записывал все происшествия во время дежурств? Тебе каждый вечер ее приносили. Ты надевал очки и с важностью читал. Тетрадка-то сохранилась.
ЮРОВСКИЙ. И ты ее читал?
МАРАТОВ. И я ее читал. Там забавные записи… Запись веселая. «20 июня. Просьба Николая Романова, бывшего царя, дать ему работы – вычистить мусор из сада, пилить или колоть дрова…»
ЮРОВСКИЙ (засмеялся). Удовлетворили. Но причем фотоаппарат?
МАРАТОВ. Ты и тогда смеялся. Действительно, забавная запись Рад, что ее помнишь, потому что прямо под ней я прочел другую: «11 июля… (всего за пять дней – до) «Татьяна и Мария просили вернуть фотографический аппарат, в чем, конечно же, им было отказано комендантом».
ЮРОВСКИЙ. Да, забыл.
МАРАТОВ. Уж ты не забывай – очень прошу. В доме был отличный, дорогой фотоаппарат «Кодак». Тот самый, конфискованный у царицы, когда впервые Семья вошла в Ипатьевский дом. При мне его конфисковали. А потом я увидел его у тебя в комендантской – в столе лежал у бывшего фотографа Якова Юровского.
ЮРОВСКИЙ. Ну и что?
МАРАТОВ. И вот я думаю: мог ли бывший фотограф в «величайший миг Революции» – так ты называл этот день – им не воспользоваться?
ЮРОВСКИЙ. Грешным делом была мысль «щелкнуть» их перед… Но ситуация была нервная.
МАРАТОВ. Что ж, понимаю, почему ты не снял их – перед. Но после?
ЮРОВСКИЙ. Я не снял и после.
МАРАТОВ. Но почему? Ведь было важно снять расстрелянную семью… На случай самозванства хотя бы. Вот сейчас, когда появилась эта Анастасия.
ЮРОВСКИЙ (кричит.) Послушай, идиот, погибли все!
МАРАТОВ. А ты бы фотографию и предъявил вместо громкого крика.
ЮРОВСКИЙ. Там света было мало, когда постреляли. И обстановка была близкой к сумасшествию.
МАРАТОВ. Понятно. Там было света мало и вы нервничали. Ты продолжай. К фотоаппарату мы обязательно вернемся. Он у нас впереди.
ЮРОВСКИЙ. Когда они приготовились фотографироваться, открылись двустворчатые двери и перед ними стояла команда. Двенадцать вооруженных людей. Мы молча стояли в широких дверях. Стало вдруг так тихо… Только во дворе шумел грузовик. И лампочка под потолком еле светила. Они в полумраке. Только подушка у служанки белела.
МАРАТОВ. Продолжай.
ЮРОВСКИЙ. Я потерял «Постановление о расстреле». И потому вынул какую-то мятую бумажку и будто бы прочел.
«Николай Александрович! Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, мы постановили вас всех расстрелять». И вновь – тишина – но какая! Николай переспросил: «Что? Что?»
МАРАТОВ. Дальше! Дальше!
ЮРОВСКИЙ. Я прочел вторично… Хотел посмотреть, как последний царь встретит смерть.
МАРАТОВ. Как же он встретил смерть?
ЮРОВСКИЙ. Он больше ничего не произнес, молча повернулся к семье, другие произнесли несколько бессвязных восклицаний, все длилось несколько секунд…и я…
МАРАТОВ. Опять – неправда. А ведь – таблеточку сожрал. Ермаков рассказал мне…
ЮРОВСКИЙ. И с ним говорил!
МАРАТОВ. Со всеми говорил. Запомни, наконец! Романов сказал: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». Не придумать эти слова Ермакову – убийца он, безбожник. Дальше, пожалуйста, дальше, товарищ Яков.
ЮРОВСКИЙ. И сразу – рывком свой кольт. Началось! Стрельба! Стрельба! Стрельба! Все пространство комнаты я отдал Романовым. Команда толпилась в раскрытых дверях. Было три ряда стрелявших. Второй и третий стреляли через плечи впереди стоящих. Руки, руки с палящими револьверами – вот и все, что видели Романовы.
МАРАТОВ. И метались в этой клетке.
ЮРОВСКИЙ. Да-да! Стрелять договорились в сердце, чтобы не мучились. И команда палила, палила из двустворчатых дверей. Выстрелы обжигали стоящих впереди. Царя пристрелили сразу.
МАРАТОВ. Еще бы! Стреляли в него все!
ЮРОВСКИЙ. Но я выстрелил первым. Он с силой грохнулся навзничь – фуражка в угол покатилась. Царица и Ольга попытались осенить себя крестным знамением – не успели! Царицу, лакея, повара, доктора снесли – первым залпом. Но с дочерьми пришлось повозиться. Да ты ведь знаешь!
МАРАТОВ (кричит). Прошу тебя! Дальше!
ЮРОВСКИЙ. Пули отскакивали от сводов. Известка летела, но самое страшное, пули отскакивали от дочерей. И как град прыгали по комнате. Мы тогда не знали почему. Помню, две младшие, прижались к стенке, сидят на корточках, закрыв головы руками. И отлетают пули от них! А тут еще горничная мечется с визгом. И закрывается подушкой, и пуля за пулей мы всаживали в эту чертову подушку… Паренек получил, наверное, одиннадцать пуль и все жил. И Никулин палил в него, палил. Он израсходовал обойму. А тот всё жил!
МАРАТОВ. Но почему так?
ЮРОВСКИЙ. Ты ведь знаешь! На девушках были лифы… Такие корсеты с бриллиантами. Она вшила туда драгоценности, видать, на случай побега. Бриллианты защищали как броня. Бронированные девицы.
МАРАТОВ. Я не про девушек – про мальчика.
ЮРОВСКИЙ. Да-да, странная живучесть.
МАРАТОВ. И как объяснишь?
ЮРОВСКИЙ. Слабое владение оружием моим помощником Никулиным. И общая нервность. Эта возня с дочерьми. Всюду кровь.
МАРАТОВ. Не сбился. Такое твое объяснение я прочел в твоем письме в Музей Революции… куда ты отдал свое историческое оружие.
ЮРОВСКИЙ. И это читал!
МАРАТОВ. Но мне так объяснять нельзя. Ведь Никулин у меня работал – в ЧК. У нас там отлично владели оружием – все. Впрочем, застрелить с двух метров сидящего прямо перед тобой мальчика – умения не надо. И никакая нервность тут не помешает (кричит). Так почему же?!
ЮРОВСКИЙ (кричит). Не знаю! Помню только, я шагнул в дым и двумя выстрелами в упор покончил с живучестью Алексея. Он сполз со стула. Наконец, все одиннадцать лежали на полу – еле видные в пороховом дыму. Я велел прекратить стрельбу. Дым заслонял электрический свет. Раскрыли все двери в доме, сквозняк устроили, чтобы дым рассеялся. Начали забирать трупы. Переворачивали сначала, проверяли пульсы. Но надо было быстрее выносить, пока над городом ночь.
Несли в грузовик на носилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли. Оглобли сняли, у стоящих во дворе саней. Ну как мы с тобой придумали. И всё!
МАРАТОВ. И все?
Молчание.
МАРАТОВ. Тогда я тебе расскажу, то что написал в своих показаниях пулеметчик Стрекотин – участник, как ты помнишь, расстрела.
«Начали выносить трупы. Первым понесли царя». Да в широкой супружеской простыне отца семейства выносили. Потом вы понесли царицу, за ней дочерей». И вот тут…
«Когда положили на носилки одну из них, – пишет Стрекотин, – она вдруг села, закрыла лицо руками и зарыдала. Она оказалась жива». И когда зашевелились остальные сестры, ужас охватил команду. Вам показалось: небо их защитило!
ЮРОВСКИЙ. Что ж прав – было такое дело. Мы тогда не знали, что девицы бронированные. Но Ермаков не сплоховал.
МАРАТОВ. Этот точно неба не боялся. Как пишет Стрекотин, он взял у него винтовку со штыком…
ЮРОВСКИЙ. Да-да! И штыком доколол девиц. Правда, когда начал колоть, штык долго не мог пробить бронированный корсаж. Тут даже он испугался. Но победил страх. (кричит) Доколол!
МАРАТОВ. Царское Село… Девичьи мечты – все кончалось в нестерпимой боли под пьяное пыхтенье бывшего каторжника Петьки Ермакова.
ЮРОВСКИЙ. Всех, всех доколол. Понятно? Потом наверх пошел в их комнату и кровь с рук их наволочкой вытер.
МАРАТОВ. Но мы запомним: «живы оказались и Ермакову пришлось докалывать…» А ведь сказал: проверили пульсы!
ЮРОВСКИЙ. Да, маненько ошиблись.
МАРАТОВ. Конечно! Какая могла быть проверка, в дыму, ужасе – среди луж крови! Вы только одного хотели – закончить!
ЮРОВСКИЙ. К чему клонишь?
МАРАТОВ. Так что Ермаков мог и не доколоть в этом безумии. А если к тому же кто-то из защищенных бриллиантами попросту потерял сознание от боли или от ужаса, увидев как убивают отца и мать. И вы их уложили в грузовик живыми вместе с мертвецами?
Юровский молчит.
Я все думаю: в грузовике-то наверняка были не дострелянные.
ЮРОВСКИЙ. Ты сумасшедший.
МАРАТОВ. Справедливо. Жаль только, что единственный нормальный – это сумасшедший я. Как по дороге перекладывали трупы с грузовика на телеги – пропускаю. Итак, в конце концов, вы привезли трупы к безымянной шахте. Дальше!
ЮРОВСКИЙ. Выбрали ее заранее. Когда-то там искали золото… Это была наполненная водой шахта посреди глухого непроходимого леса. Сбросили трупы в шахту и гранатами закидали. Наконец-то! Закончили! А утром, милчеловек, узнаю от чекистов, что в деревне близлежащей – Коптяки – только и разговаривают о трупах в шахте! Тайного захоронения не получилось. Пришлось опять! Перезахоранивать! Прокляли все, но вернулись к шахте.
МАРАТОВ. Дальше.
ЮРОВСКИЙ. Оцепили местность, и матрос Ваганов начал вытаскивать их. И тут я понял большую нашу оплошность. Там в холодной воде они сохранялись как в леднике. Вода смыла кровь и они лежали у шахты как живые. У девушек румянец появился. Если бы нашли их белые! (кричит) Вот они – готовые святые мощи! Сложили мы их опять в грузовик и опять поехали. Устали до смерти, плана никакого. Думаю, может, еще на какую шахту заброшенную набредем. И тут грузовик застрял в болотистой земле. Встал на лесной дороге – хоть плачь! Решили сжечь их! Послали в город за бензином. Сожгли двоих, и поняли – бензина не хватит, да и времени. Белые у города! Но пока они горели пока буксовал грузовик – смотрю – под грузовиком образовалась приличная яма. Тут меня осенило! Углубили мы яму лопатами до черной торфяной болотной жижи. Получилась могила!
Облили лица серной кислотой, изуродовали до неузнаваемости. И сложили их всех в эту яму в болотистую грязь. И забросали землей. А потом… Там недалеко железная дорога. Взяли оттуда старые шпалы и настелили их сверху. Проехали по ним раза два-три на грузовике. И могила стала частью проезжей лесной дороги, а шпалы стали вроде мостика над болотцем на дороге. Так что ни белые, ни серые, никто не нашел и найдет. Ермаков потом сфотографировался на ней – для памяти. Отличная могила! На проезжей дороге в болотной трясине, без креста и надгробного камня. Так хоронили преступников. Лучшая могила для Романовых – могила революции.
МАРАТОВ. Ловко рассказал, и опять не все. И потому придется тебе вернутся к первому захоронению – к шахте. Итак, привезли расстрелянных. Солнышко вышло – Романовы у шахты лежат. Раздели. И ты увидел – через пробитые штыком корсажи сверкнуло – бриллианты. Мешок драгоценностей набрал с трупов. Совсем успокоился, даже позавтракал яйцами с молоком, которые накануне для мальчика привезли. Не забыл, взял с собой. И я всё думаю, мог ли бывший фотограф Юровский не взять вместе со жратвой ту фотокамеру Кодак? Мог ли он не снять царской камерой расстрелянную царскую семью?
Молчание.
МАРАТОВ. Конечно, не мог. И потому, не скрою, искал фотографию. Она мне по ночам снилась!
ЮРОВСКИЙ. Но не нашел. Ее нет.
МАРАТОВ. Совершеннейшая правда. И мне оставалось только понять: почему ее нет. И тут помог ты сам. Записка твоя и выступления о расстреле!
Молчание.
Ты пишешь. «Когда раздели трупы, увидели – все дочери имели на шее ладанки с изображением Распутина и его молитвой». А Алексей – мог ли он не иметь такую ладанку? Ведь Распутин приходил во дворец ради него. Он его лечил! Где его ладанка?
ЮРОВСКИЙ. И что?! Я просто забыл написать.
МАРАТОВ. Ты пишешь: «Когда раздели девиц, на трех дочерях оказались особые корсеты с вшитыми бриллиантами». На трех? А четвертая дочь – что ж не имела бриллиантов? Ведь вшили им драгоценности – на случай побега. Значит вшили каждой. Где четвертый корсет с бриллиантами? И, наконец, Алексей. В письме в Музей Революции ты справедливо описал «странную живучесть Наследника». Целую обойму израсходовали, а он все жил. Неумение чекиста Никулина владеть оружием мы с тобой исключили. Значит? Да, паренек тоже был защищен бриллиантами! Где они? Бриллианты с двух тел? Где?! Тут забыть тебе никак нельзя. Драгоценности – не ладанки! Они нужны мировой Революции!
ЮРОВСКИЙ. Ах ты, подлец, думаешь, я мог?!
МАРАТОВ. Никогда! Скорее бы умер, чем взял. Нет, нет… Корысть исключается. Ты предан Нашей горькой Революции. Но куда исчезли бриллианты с двух тел? Не можешь ответить? А ведь ответ прост – и только один. Ты попросту их не видел.
ЮРОВСКИЙ. Кого?
МАРАТОВ. Двух тел: мальчика и одной из дочерей. Когда у шахты выгрузили убитых, двух тел не оказалось. Вот почему ты не смог сфотографировать трупы Романовых, да? Хотя, конечно, же взял с собой камеру. Вот почему драгоценностей с двух тел не хватает. И оттого ты придумал написать «два тела сожгли». Дескать, вместе с бриллиантами.
Молчание
ЮРОВСКИЙ. Ты сумасшедший!
МАРАТОВ. Два тела исчезли! Но как? Отвечу: исчезнуть они могли только по дороге. Когда грузовик с расстрелянными ехал из Ипатьевского дома к шахте. Сначала я решил что это – ты!
ЮРОВСКИЙ. Я?!!
МАРАТОВ. Ну да! Римма дочь-раскрасавица рассказывала мне, как в молодости ты написал письмо Толстому. Спрашивал совета можно ли тебе жениться. Дескать, безумно любите друг друга, но муж у нее в тюрьме, и совесть мучает тебя. Совесть не позволяет. И когда я всю историю представить пытался, я про письмо твое вспомнил… Итак! Уложили вы расстрелянных в грузовик, чтоб царской кровью кузов не залить, постелили солдатское сукно. И солдатским сукном трупы накрыли, да? Ермаков сел с шофером в кабину грузовика. Он ведь теперь становился главным – ответственным за захоронение. Его люди должны встретить вас в дороге, чтоб хоронить несчастную семью. А тебе пришлось ехать в кузове вместе с трупами. Стеречь. И когда ехали, ты и услышал стоны из под солдатского сукна… Недостреленные двое мальчик и девочка. И после всех зверств, луж крови и ужаса не смог дострелить, не смог остаться муравьем. Тот, мучившийся когда-то совестью, победил. Когда ехали через глухой, непроходимый лес, сбросил их с грузовика. И до сих пор этого простить себе не можешь!
ЮРОВСКИЙ. Ты сумасшедший!
МАРАТОВ. Но удалой чекист, матрос Медведев-Кудрин эту красивую историю разрушил.
ЮРОВСКИЙ. И с ним говорил?!
МАРАТОВ. А как же без него! Он ведь рядом с тобой стрелял в той комнатке. И до сих твердит – его выстрел убил царя. Оказалось, всю жизнь ты с ним сражался за право считаться цареубийцей. Вы, говорят, даже соревнования устраивали – два безумца. Кто раньше выстрелит! Он из браунинга или ты из кольта. И Медведев-Кудрин рассказал. В кабину, действительно сел комиссар Ермаков. А ты ехать в кузове с трупами отказался. Поехал, важный, в автомобиле. А в кузов к трупам приставил красногвардейца – стеречь. И вот этот красногвардеец, видать, услышал в пути стоны мальчика и девушки. Это было для него избавление – придут белые и он спаситель. И вскоре в кузове уже не было – ни красногвардейца, ни их… А ты, удалой автомобилист, когда положили Романовых у шахты, все понял.
ЮРОВСКИЙ. Я сжег двоих! Двоих сжег!
МАРАТОВ. Ну если настаиваешь, тогда у нас с тобой только два решения. Когда ты понял, что исчезли двое, помчался прочесывать лес. И нашел их… Уже мертвых и без бриллиантов – постарался красногвардеец. И пришлось тебе и вправду сжигать два трупа.
Но есть и второе решение! Не стал искать их! Пожалел! И тогда? Она жива?! И потому не приходит в моем бреду?! Отвечай! Отвечай!
МАРАТОВ вдруг замолкает, прислушивается. Потом бросается в темноту палаты, и прячется за шторой огромного окна.
Входит МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК с чемоданчиком.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Утро доброе …Очень доброе утро.
Напевая, вынимает шприц из чемоданчика.
ЮРОВСКИЙ. Не надо! Зови начальство! В палате – предатель!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК молча всаживает шприц. Юровский тотчас затихает.
Входит молоденькая СЕСТРА.
СЕСТРА. Готово, котик? (прижалась к молодому человеку).
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Уймись! У меня еще три укола!
Гасит свет – светит только ночник. Уходят.
Тишина.
ЮРОВСКИЙ недвижно лежит в постели. Из-за оконной шторы появляется МАРАТОВ. Постоял у кровати.
МАРАТОВ (Юровскому). Прощай, товарищ.
Тихо смеется, глядя в темноту.
МАРАТОВ. Все по-прежнему, Ваши Величества. Всё, как раньше – она живет, но в воздухе, траве и листьях… (Останавливается.) Да-да, слышу звонки (лихорадочно) Звонки, звонки! Всю жизнь звонки!
«И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но претерпевший до конца спасется».
Господи! Претерпевший до конца … спасется?!
Биографическая справка
Яков Михайлович Юровский умер в Кремлевской больнице в 1938 году в 20-ю годовщину расстрела Царской Семьи.
Федор Николаевич Лукоянов (Товарищ Маратов) из-за тяжелого нервного заболевания был вынужден оставить работу в ЧК.
Умер накануне 30-й годовщины расстрела Царской Семьи.
Все руководители Красного Урала, подписавшие решение о расстреле Царской Семьи, были расстреляны сами или погибли в сталинских лагерях.
Все исполнители расстрела умерли в своих постелях, как и просил о том Господа Последний царь.
Царство палача
Зимой 1996 года я приехал в Париж. И все представлял, как ровно сто лет назад были в Париже – Они…
Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию – после того, злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив (его убьют потом – бомбой).
Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали: красавица императрица, Государь – милый молодой человек в военной форме – и очаровательная дочка.
Он записал в дневнике:
«25 сентября произошла закладка моста, названного именем папа. Отправились втроем в Версаль. По всему пути от Парижа до Версаля стояли толпы народу, у меня почти отсохла рука, прикладываясь. (Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. – Э.Р.) Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны… Залы и комнаты интересны в историческом отношении».
Это «историческое отношение»… Оно уже тогда должно было Их поразить.
С площади Согласия (бывшей площади Революции) хорошо видны колонны церкви Маделен. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той, французской королевской четы – во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты. И окончился страшными жертвами – сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование! Не к добру такое начало совместной жизни!
И у Них тоже произошло страшное и тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж, во время коронации… Они приехали на Ходынское поле – сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне – вся знать Европы. Но Они знали – все утро отсюда вывозили трупы: во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти две тысячи несчастных…
И тот же страшный шепот: не к добру это! С кровавой приметы начинается царствование!
«Интересны в историческом отношении»… Только потом царь узнает, как связан был с Ними Париж в этом самом «историческом отношении». Какой пророческой оказалась безликая фраза! Все, что узнали Они тогда в Версале, повторится в Их жизни.
Был мягкий, безвольный Людовик – и Николая будут называть мягким и безвольным.
И две Елизаветы – сестра Аликс, набожная основательница Марфо-Мариинской обители. И другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой – сестра Людовика XVI.
Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей. И его жена – властная и надменная красавица. И та же ненависть народа к королеве – Марию Антуанетту называли «австриячкой» и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть «немкой» и обвинять в прелюбодеянии с мужиком. И ненавидеть! Так же ненавидеть!
И как те в любимом Версале, Они в любимом Царском Селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками.
На кладбище у церкви Маделен Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашеной известью.
И Их впереди ждала такая же участь – безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда такие счастливые по Парижу!
Оскверненный собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей… Поруганные мощи святых (святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену)…
Страшное кладбище у парка Монсо (оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай)… На этом кладбище они лежали вместе – блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры…
Все эти воспоминания времен Французской Революции станут Их будущим. Возвращаясь из Версаля, Они не знали: перед ними было зеркало.
Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году.
И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать по-французски – «abdiqua» (отрекся). И должно быть, вспоминать, как Они стояли в той зеркальной зале.
Зеркала Версаля…
Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении.
И конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия Революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до Революции другим мистиком, неким Казотом.
Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств.
Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с Галантным веком: несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам (в век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они хотели быть модными). Приглашен был и Казот – философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось – Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение.
Однако настойчивые дамы победили. И он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение – тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным сооружением…
Он описал его. Впоследствии оказалось: он описал гильотину… за двадцать лет до ее изобретения!
Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное – очередь людей, поднимавшихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции. И что самое ужасное – в ней были все присутствовавшие в тот вечер. И первым стоял он сам – Казот! Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега и оттуда высаживались очередные жертвы…
После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить:
– В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне, по крайней мере, право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже.
– Нет, – вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом. – Право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге.
Поразительно: пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах: как спокойно, но «без наглой самоуверенности» взошел он на эшафот… Что ж, двадцать лет назад Казот все это уже пережил – так что он приготовился! И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти.
Это был он – Месье де Пари, палач города Парижа Шарль Анри Сансон.
Ради него я и приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, – решил подышать, так сказать, «теми же воздусями» и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно сто лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехалась по Парижу – по древнему кварталу Маре с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни Революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг…
От площади Республики и идет та самая улица Шато д'О. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы! Ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя.
Дом Сансона. Палача Сансона. Сансона Великого. Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописания – и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой… Но мы-то хорошо понимаем этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения.
В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие (это была тогда окраина Парижа), завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы…
А он шел. Один. Он тогда был молод, высок, красив.
Он привык разговаривать сам с собой. Ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников.
Сансон – палач города Парижа… Именно в те молодые годы он и начал вести Журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. И я все представлял, как уже потом – старый, разбитый болезнью и страхом – пытался описать он свою жизнь. Жизнь, столь необыкновенную именно «в историческом отношении»…
И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было – одно далекое, невнятное бормотание… Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался… Только впоследствии я понял: я переносил на бумагу чужие мысли. Его мысли. Я обнаружил их потом в «Записках палача», написанных его внуком.
Это были те же мысли, но… одновременно и другие! И тогда мне стало казаться – он сам говорил со мной.
Рассказ Cансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ЗАПИСОК ПАЛАЧА»
Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и Я – мы шествуем вдвоем.
Я иду и думаю – как всегда, об одном и том же.
С тех пор как существует человечество – существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Исполнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!
Возьмем самое легкое – бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет, поусердствовали, выдумали – и поручили палачу волочить по городу несчастного, привязанного к телеге, а на каждой площади останавливаться и сечь! Сечь!
Но бичевание – это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали – и поручили палачу! И презирали его за это.
Венец нашей работы – смертная казнь. И опять: людям мало убить – им надо еще мучить, мучить, мучить!
Смерть на кресте – самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего, сколько новых казней придумали – и куда страшнее!
Колесование! После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе – мне все мерещится, все снится, как я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык… Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не «ласкает» палач! Но и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол… О, изобретательное человечество!
А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения… Им интересно! Складывается костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу… Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа – смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди – это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость: при сожжении на костре мы ставим багор с острым концом для перемешивания соломы точнехонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучений от огня…
Кого мы только не сжигали на кострах: еврея – потому что он не христианин; христианина – потому что он протестант; католика – потому что он стал атеистом… Люди приказывали – и мы сжигали! И они же нас за это презирают.
Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть Исполнителем? Точнее – презирают и боятся… Боятся? Еще бы! При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятьях палача.
В заключение назову две самых простеньких казни – на виселице (для простолюдинов) и от меча (для дворян). Даже здесь, на последнем пути, – нет равенства.
Впрочем, Великая Революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравняла в смерти. Был принят закон: с 1790 года казнь для всех граждан стала единой – гильотина.
О том, что вышло из этого «облегчения», вы вскоре узнаете из моего рассказа.
Во Франции должность палачей – наследственная, передается от отца к сыну. Неважно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец. С этого мгновенья ты – палач!
В нашем доме была комната, где висели мечи (каждый имел свою историю). Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачей – как скипетр королей – передавали мы, Сансоны, из рук в руки, от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери – быть ему палачом!
Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон – Сансон Первый.
Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода: поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали…
Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте.