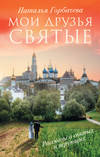Kitabı oku: «Пути небесные», sayfa 3
Это предпочтение внешнечувственного духовному обнаруживается довольно часто. Высокий уровень духовности, заданный в первом томе, снижается до душевности во втором, где духовная реальность нивелируется, растворяется в чисто внешних любованиях, эстетических переживаниях. «Икона Покрова была в лилиях, с подзором-пронизью, в жемчугах. Шла она в середине хода, и все на нее взирали: прекрасна была она, сияющая солнцем и самоцветами…» Автор рисует сугубо мирское восприятие крестного хода Вейденгаммером: лишь человек, неспособный ощутить духовное сияние первообраза, может употребить по отношению к иконе эпитет «прекрасная». Но не только самоцветы притягивают взор, фраза продолжена так: «и обе трудницы, принявшие на себя ее, блиставшие чистотой и юные, привлекали к себе глаза». Чувственно-восторженное восприятие иконы и юных дев уместно для героя – человека еще всецело плотского, не знакомого ни со смыслом иконописи, ни изображенного на образе «Покрова». Но в романе это восприятие генерализируется, ему нигде не противопоставлено иное понимание, и можно предположить, что таковым оно сохранилось у автора со времен написания «Неупиваемой чаши», романтической саги, где мастер создает в любовном экстазе икону-портрет возлюбленной женщины: «Лик… был у нее – дивно прекрасный! – снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и “поражающие”… глаза» (1, 430).
Такое видение, конечно, вполне могло быть свойственно Виктору Алексеевичу, человеку «плотскому». Но и внутренний мир Дариньки претерпевает значительные изменения. Одолев искушения явные (любовная страсть к Вагаеву) в томе первом, во втором Даринька оказывается в плену соблазнов более тонких, которых не видит ни она, ни автор.
Дариньке, пребывающей в состоянии «счастья», нравится, что на нее восхищенно смотрят, нравится, что она едет в карете. В ней невозможно узнать героиню первого тома, которая совсем еще недавно хотела «покаяться во всеуслышание… всех молить, валяться у всех в ногах, чтобы простили ей ее мерзкую жизнь, ее смертный грех блуда и самовольства». Еще более акцентируется ее утонченно-эротическая привлекательность, и двусмысленно звучит шепот старушек в церкви: «живая куколка».
«Двухприродность» Дариньки, которая как бы переключается из духовного состояния в душевно-телесное и обратно, ведет к тому, что и в художественном изображении Шмелев вынужден достаточно резко переключаться с описания высоких состояний на сугубо светскую, чувственную живопись. И когда контраст становится слишком сильным, происходит нарушение художественной меры. Показателен следующий эпизод. Побывав в Страстном монастыре, где когда-то собиралась принять постриг, отслужив панихиду по матушке Агнии и вернувшись в гостиницу, Даринька с коробкой нарядов, купленных Вейденгаммером, тут же убегает в «будуарчик» и кокетливо выпархивает из него вот в каком виде: «Живые сливки… сливочное-фисташковое. Такая же и шляпка, с выгнутыми полями, особенной соломки… – “ну, что он только, совсем безумец!” – слушал он восхищенное “про себя”».
Шмелев в ответ на упреки замечал, что его героиня во многом еще дитя, да и в романе много раз говорится, что Даринька, собственно, по-детски не осознавала, что с нею происходит в моменты искушений. Но такое «оправдание» помимо того, что наводит на мысль о нравственной неразвитости героини, вступает в противоречие с представлением ее как духовно исключительно чуткого человека.
Чередование противоположных ликов героини подметили и И. Ильин, писавший о недооформленном, неясном образе главной героини, «то обуреваемой земным алканием, то заливаемой стихией церковно-родового молитвования»48, и современные исследователи: Даринька порой обретает под пером Шмелева черты светской львицы, ведет себя как заправская кокетка, «ангелоподобное существо периодически подменяется образом увлекающейся женщины»49.
Шмелев сознательно манифестировал именно «разрывы» в состоянии героини. Но они зачастую приводят к разрывам самой художественной ткани. Так, отношение к драгоценным камням приобретает магический оттенок, совершенно не свойственный для «без рясы монашки». Бриллианты, подаренные Вейденгаммером, производят на нее чарующее действие. Она освящает их в церкви (сам по себе странный поступок), где ей приходит мысль, что они подошли бы к ризе иконы, но, вернувшись, она надевает их перед зеркалом, и глаза ее сияют «восторгом». Все это было бы по-житейски понятно и оправданно как простительная слабость, но в дальнейшем эта сцена превращается в символ: такой «чудесной» броши достойна только «чудесная» Даринька. Во время новоселья восхищенным гостям открывается «идея» чудесной броши: «высота, чистота, недосягаемость», причем Дарья даже запрещает кому бы то ни было прикасаться к камню, а затем эта идея прилагается и к самой Дариньке: все почувствовали, что «главным чудом была она: она была как бы поднята над всем, отмечена как достойнейшая, чистейшая». Возвышенная повествователем над земной реальностью, героиня получает почти Богородичные (ср.: «Достойно есть…», «Честнейшая…», «Славнейшая…», «Матерь чистоты и света») атрибуты.
Сравнение лучших человеческих качеств с драгоценными камнями как метафора имеет устойчивую традицию в культуре («слезы, как жемчуг», «алмаз души», «бриллиантовое сердце»), но не менее устойчива в русской, да и в мировой литературе мысль о том, что с реальными бриллиантами связана стихия инфернальная, неправедное богатство и порок («наглой белизной сверкающий алмаз»). Ведь в первом томе романа и цветы, и драгоценности, которыми засыпали Дариньку развратник-барон и его племянник, были источниками «темного», бесовского искушения. Не случайно Даринька почувствовала себя «отпущенной» лишь после того, как вернула драгоценности: все темное, злое «ушло с вещами». Во втором томе нравственные знаки этих предметов меняются на противоположные. Возникает художественное противоречие в подобного рода перечислениях: «Она сияла: сияли ее глаза, берилловые серьги, ночное небо броши»; эстетическое чувство протестует против представления о небесной чистоте земной все-таки женщины в бриллиантах.
Навязчиво повторяющиеся определения Дариньки как «чистой» и «святой» и эстетически, и нравственно противоречат тому факту, что героиня находится все же в смертном грехе прелюбодейного сожительства, не говоря уже об измене монастырскому послушничеству. Единственное художественное оправдание этих эпитетов то, что они вложены в уста восторженных и преклоняющихся перед ней людей (Вейденгаммера и затем Вагаева), употребляющих эти слова вне всякой связи с их духовным значением. Сама Даринька в одной из сцен первого тома от этих сравнений «в ужасе», а Вейденгаммер впоследствии сознает их кощунственный характер. Но когда читатель призывается разделить мнение о святости героини в объективном повествовании, когда Даринька начинает творить таинственные чудеса, правда характера нарушается. Образ кающейся и смиренной грешницы заменяется образом святой чудотворицы: под таинственным влиянием Дариньки совершаются нравственные превращения, исцеления (об агиографических элементах образа пишут Л. Борисова и Я. Дзыга, также усматривая художественное противоречие).
Выскажем предположение, что истоки такого видения Дариньки коренятся в значительной мере в эстетических и философских составляющих русского символизма начала XX века. Чувство Вейденгаммера к Дариньке перерастает в языческое обоготворение, его монологи (и в обращениях к Дарье, и в позднейших его воспоминаниях) – настоящая молитва-дифирамб сотворенному кумиру: «Она… высоко надо мной, царица, а я – у подножия ног ее»; «Я перед ней склонился, я целовал ей ноги, раздавленный духовным ее величием»; «Я понял, что она вся чистая… осветляющий тихий свет, святая». Переживая «взрыв всех чувств», Виктор Алексеевич в восторге припадает к ее ногам, он постоянно восклицает: «Ты совершенно ослепительна!», «Ты удивительная»; иной раз его потрясает до окаменения «эта ледяная ее решительность, эти глаза в обжигающем и леденящем блеске, эта сила…».
Подобные лирические пассажи с гиперболизацией чувств напоминают обращения поэта к возлюбленной – «даме сердца». Преклонение Виктора Алексеевича («Я мог на нее молиться») типологически идентично культу Прекрасной Дамы, который исповедовали младосимволисты. Как и они, он доходит до кощунства, уподобляя свою возлюбленную не только святым подвижницам («ты у меня святая, вся чистая»), но Самой Пречистой Деве.
Имя философа – идеолога символизма – несколько раз встречается в тексте: «Вот теперь в Петербурге читает публичные лекции талантливый молодой мыслитель Владимир Соловьев, говорит о рождении Бога в человеке, о Богочеловечестве… Этот Соловьев говорит о том же, во что ты, прелестная, скромная моя, веришь сердцем!»
Тема «Соловьев и Шмелев» практически не разработана в литературоведении. Между тем несомненно, что философ оказал значительное влияние на Шмелева. Еще «в «Неупиваемой чаше», которая своим образным строем во многом предвосхищает «Пути небесные», господствовал соловьевский пафос соединения человеческого с небесным, земной страсти с молитвенным настроением. «’’Светлая моя”, “радостная”, “чистая”, – мысленно обращается герой Шмелева к возлюбленной», – пишут Л. Борисова, Я. Дзыга, замечая, что лик, увиденный иконописцем Ильей, идентичен воспетому Соловьевым в поэме «Три свидания»50 (и надо заметить, что по отношению к героине «Неупиваемой чаши», хранящей верность своему распутному супругу, эти определения звучат куда более уместно, чем по отношению к бывшей послушнице Дарье Королевой).
В «Путях небесных» ноты символистской поэзии, идеи Вечной Женственности открыто манифестированы еще в финале первого тома, в письмах Вагаева, который как раз в этот период «слушает Вл. Соловьева», к Дариньке:
«…“Вы Пречистая для меня… жена моя, вечная моя… чудесная, чудотворная, небесный ангел” <…> “Божественное смотрит из ваших глаз”, “в вас, как ни в какой другой, особенно чувствуется то вечное, что уводит за эту жизнь”. Он писал, что слышит в ней “шепот небесной тайны”, что в ней постигает он “самое идеальное любви”, что она в этом мире “как во сне”, что истинная она – в другом, за-мирном, и в ней, через нее, он чувствует мир предвечный, откуда она пришла <…> “В вас… великий отсвет того… небесного, предчувствуемого, о чем мечтает поэзия, что ищет философия, что знает одна религия…”. <…> Он говорил о “золотинках” в ее глазах, о “материи Божества”, неведомыми для нас путями просыпавшейся из Божественной Кошницы и оставшейся на земле <…> “вечное в ней светилось, от той Кошницы”».
Записи Багаева, между прочим, настолько адекватны символистским воззрениям, что сохраняют и такую их особенность: для символистов их избранницы были интересны именно как медиумические фигуры, через которых можно приобщиться к Софии, а не как самоценные личности. Не очень образованную Дариньку, впрочем, эти письма «долго волнуют», в отличие от реальных фигур, например Л.Д. Менделеевой, которые страдали от невнимания к их собственной душе.
Письма Димы соотносятся во втором томе с записями в дневнике Вейденгаммера, созерцающего Дариньку: «Вот то, влекущее, чего ищут все, вечное-женственное… В тот памятный вечер во мне родилось постижение величайшего из всех образов: Дева – Жена – Приснодева».
Так, Даринька, скромная золотошвейка, молитвенница и смиренная кающаяся, предстает одним из воплощений Вечной Женственности. Автор никак не «компрометирует» это восприятие ее персонажами, напротив, такой она видится и самому Шмелеву, и об этом он говорит в заметках к роману. И Дарья, лишь казавшаяся таковой окружающим в первом томе, во втором все более соответствует этому образу в действительности.
Умножаются голоса, видения, сны, знаки; Даринька начинает видеть иной смысл буквально во всем, предметный мир становится для нее символом, тенью, знаком мира невидимого, что все более отдаляет ее от христианского мироотношения. Даринька, таким образом, превращается чуть ли не в адепта философии символизма, где каждое явление действительности рассматривается как тень, символ, знак того, что недоступно простому созерцанию. Убеждая Вейденгаммера в неслучайном, «знаковом» смысле происходящего, она все ближе подходит к тому, чтобы вслед за философом-мистиком повторить:
Символизм в том виде, как он сложился в России на рубеже XIX–XX веков, как правило, равнодушен к первому пласту реальности (будь то предмет или человек) и всецело направлен на поиск «скрытой» сущности. Христианский символизм основан не на открытии «загадочного», стоящего за предметами, но на обнаружении истинного вида предметов, который открывается духовному разуму, стяжаемому благодаря чистоте ума и сердца.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет об этом так: «При наступлении дня после ночной темноты ночной образ чувственных предметов изменяется: одни из них, доселе остававшиеся невидимыми, делаются видны, другие, бывшие видны неотчетливо… обозначаются определенно. Происходит это не потому, чтоб предметы изменялись, но потому, что отношение к ним зрения человеческого изменяется при заменении ночной тьмы дневным светом. Точно то же совершается с отношением ума человеческого к предметам нравственным, духовным, когда озаряется ум духовным знанием, исходящим из Святого Духа»52.
«Вещи, движенья, звуки: во всем ей виделась глубина, все было для нее знамением… во всем чувствовался глубокий Смысл» – в этих словах о Дариньке классически передано мирочувствование поэта-символиста, но происходит явный отход от христианского реализма и трезвенности. Св. Исаак Сирин предупреждал: «Господь во всякое время близкий заступник к святым Своим, но без нужды не являет силы Своей каким-либо явным делом и знамением чувственным, чтоб заступление Его не сделалось как бы обычным для нас, чтоб мы не утратили должного благоговения к нему и оно не послужило для нас причиною вреда»53.
Сам Шмелев не был адептом какой-либо религиозно-философской системы. Однако, как сообщает О. Сорокина, еще в России он интересовался религиозной философией В.С. Соловьева, а в эмиграции «его знакомство с религиозно-философскими вопросами основывалось на живом общении с кругом таких мыслителей, как С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Н.А. Бердяев, которые по совету Шмелева проводили в Капбретоне лето 1925 года… Они собирались для обсуждения различных богословских вопросов. В прения Шмелев никогда не вступал, а оставался… пассивным слушателем»54.
Вероятно, Шмелев усваивал какие-то отдельные компоненты различных философских систем, которые не всегда совпадали со строго святоотеческим православным вероучением. Круг его чтения во время работы над романом необычайно пестр: он читает Гофмана и Феофана Затворника, Н. Бердяева и изречения старца Амвросия Оптинского, разыскивает книги С. Булгакова, Уильяма Джемса. Об увлечении Шмелева современной религиозной философией его друг писал: «Что Вам это даст? Вы уже давно вошли туда, где из этих словоблудов никто и не бывал! Э-эх!»55 Этому предостережению страстная и увлекающаяся натура писателя, вероятно, противилась. Впрочем, часто Шмелев высказывает весьма скептические суждения: «Философия – гимнастика и эквилибристика ума… Все построения ее куда краткотечней пирамид. Она имеет величайшую заслугу:…она ищет и творит путь к Богопознанию.
Правда, что часто она и мешает этому пути» и далее сообщает, что сам он ограничивается в художестве «изображением мученического и трагического, пересказом “явлений”». «Я ведь живу только чувством, чувствами… Философией можно “приправлять” художество, но не строить его на ней, – провал. Я в “Путях небесных” не философствую, там… старается невер поджечь веру в себе, т. е. как-то ее “ощутить”»56.
Основа романа, действительно, не столько философская, сколько религиозная, но, безусловно, «приправа» некоторых философских идей ощутима. «Этими двумя началами, двумя мирами – сном – действительностью – временным, – и – “жизнью”, ирреальным – вечным, жило и живет человечество, это “гвозди”, на которых стоит вся жизнь, это – относительное и абсолютное, время и вечность, материя и Дух. Мир спит в плоти, в грехе, и – должен проснуться в вечное». Эта фраза завершает приводимые Ю. Кутыриной наброски Шмелева о «двумирности» Дариньки и является одновременно постулированием религиозно-философской идеи романа. Однако можно ли всецело признать это понимание христианским? Восприятие мира как становления, идея его «пробуждения», превращения в «Лик Божий» носят отчетливый хилиастический оттенок. Главная цель христианской жизни – спасение души в вечности – при таком понимании отходит на второй план или вовсе игнорируется.
Очевидно, эти мысли, отождествляющие грех с плотью и материей, записаны не без влияния разного рода теософских учений, возрождавших в начале XX века гностические, манихейские представления о двух извечных антагонистических началах – материи и духа, приравнивавших плоть к греху. Поэтому в романе Божественное – идеальное и земное – человеческое «разрывают» Дариньку, тогда как смысл православного делания – просвещение плоти, обожение личности, обретение цельности духовной и физической сфер.
Отметим, впрочем, что истоки увлечения Шмелевым идеей Вечной женственности лежали не только в философии Соловьева, но и в его собственном давнем и благоговейном отношении к женщине. Он писал в «Крушении кумиров»: «Русская женщина – и сестра, и жена, и мать – носит в душе великую силу – великое страдание. В подвиге творчества новой жизни – многое она может. Ее душа – душа глубины, и высоты, и Света. Светлые и величавые образы русских женщин дала наша литература, как ни одна литература в мире» («Крушение кумиров»). Трепетное, до преклонения, отношение Шмелева к женщине усиливалось с годами: незаменимой опорой и духовной водительницей была для него супруга, Ольга Александровна, которой посвящен роман, а после ее кончины предметом платонической любви писателя стала другая Ольга Александровна (Бредиус-Субботина), которая, как он считал, была послана ему провидением. Собственные размышления Шмелева переплетались с концепциями софиологов: «Давать план Жизни, вести Мир, править – должна Женщина! <…> Она дает Мир, ergo: Мир – ее. Мир – Она. <…> Отсюда – Софии. Отсюда “женственное начало” в Боге – у Булгакова. Далеко не просто гетевское – эвиге вейблихе (вечное женственное. – А.Л.). А – прозревание. <…> Подлинный ум – творчески-религиозный, провидение-чуяние – духовно-душевная дальнозоркость. Вот – главная сила. И она – в женщине»57.
Итак, во втором томе характер Дариньки уже в объективном изображении начинает наделяться далеко не православными душевными чертами. Кратко их можно обозначить одним словом: «прелесть». Вчитаемся в строки: «Это святое, что было в ней, этот “свет нездешний” наполняли ее видениями, голосами, снами, предчувствиями, тревогами. Тот мир, куда она смотрела духовными глазами, – только он был для нее реальностью. Наше, земное – сном». В любом литературном тексте «голоса» и «чудеса» вполне допустимы как художественный прием. Но в произведении духовного реализма они не могут восприниматься иначе – как явления духовной реальности, светлой или темной. Перечисленные состояния (видения, голоса, сны, предчувствия, тревоги), наряду с упоминаемыми не раз «молитвенными припадками» и обмороками, являются несомненными признаками воздействия на душу бесовских сил, оценка же их как признака «святости» лишний раз свидетельствует о глубоком прельщении героини и духовной слепоте преклоняющихся перед ней.
В первом томе Шмелев блестяще воспроизвел ситуации обольщения чудом: «Впоследствии Даринька постигла духовным опытом, что в этом «чуде» таилась уловляющая прелесть». Во втором томе она словно забывает об этом поучительном опыте, теряет духовную трезвенность. И сам характер чудес, как уже говорилось, становится все более сомнительным с православной точки зрения.
Весьма интересен проведенный Л. Борисовой и Я. Дзыга анализ словоупотребления и смыслового наполнения слова «прелесть». Выявлены такие особенности: «прелесть» оказывается постоянным качеством Дариньки; при этом значение слова в процессе развития сюжета двоится между изначально церковным, негативным, и мирским, эстетическим, позитивным; «прелесть в смысле «обольщение, соблазн» употребляется в романе в 11 случаях из 54» (один к пяти – очень показательное соотношение!); «У Шмелева противоположные значения «прелести» нередко хаотически смешиваются». Согласимся с выводом исследователей: «Первое, «строгое» значение слова не может не быть главным в духовном романе, но у Шмелева оно нередко заслоняется вторым, светским»58.
Схожие выводы можно сделать и по отношению к другому, одному из самых частых слов романа – «восторг». Тон повествования отличает повышенная эмоциональность, местами переходящая в экзальтированность. Во втором томе особенно сказывается присущая творчеству Шмелева страстность, исступленность, которая ведет к нарушению художественной меры в передаче внутренних движений души. В состоянии «восторга» очень часто находятся Вейденгаммер, многие встречающиеся с Даринькой люди, но, что всего печальнее, она сама. И если в первом томе состояние восторга героини преимущественно представлено как состояние прельщения ложными ценностями (ювелирные изделия, бега, адюльтер с гусаром и пр.), то во втором – аналогичные состояния «восторга» (который она испытывает при виде природы, людей, храма, иконы, броши и др.) обретают позитивный смысл.
С духовной точки зрения восторг – опасное состояние, чаще всего признак прелести. Подвижники благочестия и учители церкви предостерегали от экзальтированности и восторженных ощущений. С точки зрения эстетической переизбыток восторженного чувства в героях не способствует художественному совершенству. В книге «О тьме и просветлении» Иван Ильин писал об этом так: «Во второй части романа образ Дариньки рисуется все время чертами умиления и восторга, которым читатель начинает невольно, но упорно сопротивляться… Сентиментальность становится главным актом в изображении… Главная опасность “чувствующего” художества оказывается непреодоленной и неустраненной в “Путях небесных”; читатель воспринимает намерение автора, но перестает художественно “принимать” его образы и созерцать его предмет»59.
Приведем еще одно, наиболее показательное, свидетельство «расцерковления» героини. В первом томе Шмелев дал несколько глубоких описаний молитв Дариньки – келейных и церковных. В главе «Аллилуия» второго тома, целиком посвященной участию Дариньки в богослужении, ее поведение в храме превращается в некое сакральное действо с цветами. Перед началом службы она посылает девочку за цветами, которые забыла принести с собой. Затем выбирает место у открытого окна, откуда виден прекрасный летний пейзаж. За Шестопсламием (когда особенно строго положено внимать молитве и в храме гасят свет) героиня занята выбором цветов, подходит к праздничной иконе, чтобы поставить перед ней пионы. Затем она думает, что хорошо бы поставить «вазу с лилиями» к иконе святителя, но начинается торжественное песнопение «Хвалите имя Господне». Даринька – в экстазе, душа ее «возносится», но и здесь не обходится без цветка: «Она слышала чистый, восторженный голос Нади, и ей казалось, что и жасмин в ее волосах… пел тоже “Аллилуия”». С сенокоса в окно церкви вливается «медовое дыханье» трав. С «тающим» сердцем Дарья слушает Евангелие, затем несет вазу с цветами в придел, ставит перед образом святителя. Задержавшись при возвращении в храм из придела, она слышит 50-й покаянный псалом не с самого начала. Характерно, что она не включается в соборное молитвословие, но начинает рассуждать по поводу слов: ей представляется очередное знамение в том, что она не успела услышать обличительный «страшный» стих псалма, напоминавший ей о ее грехе: «И вот тогда не услыхала она его, он прозвучал без нее: его закрыло… И она приняла это, что греха уже нет на ней… Верила, что внушено ей было остановиться и не услышать напоминания». Психологически состояние и поведение героини вполне правдоподобны, но они – на грани «мнения», ведущего в прелесть. Следует различать ситуации, когда Господни знаки подаются несомненно и направленно и когда человеческая душа сама начинает измышлять и фантазировать, причем, как в данном случае, в опасном направлении – «греха нет».
В этой главе Шмелев с присущим ему художественным мастерством нарисовал вполне достоверный и, может быть, распространенный тип околоцерковного сознания, но вступил в противоречие с представлением о характере героини как православного воцерковленного человека. Заключим комментарий к этой сцене строгими суждениями святителя Игнатия: «Достойны сожаления оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес.
Этой потребностью обнаруживается особенное преобладание плотского мудрования… неспособность души сочувствовать Святому Духу, ощутить присутствие Его и действие Его в слове»60.
Отметим и еще один момент философии Соловьева, который, по-видимому, способствовал введению дополнительных штрихов в одну из важных философских составляющих романа – идею неслучайности всего происходящего. Она может показаться подлинно христианской, но мысль о таинственном значении и даже предназначении каждого явления уже уводит от представления о Промысле и свободной синергии Бога и человека. И. Ильин сетовал на эту особенность романа, явственнее проступившую во втором томе, приводя в пример рассуждения о «назначенности» ночного пения петухам.
Идея «оправдания» мира в явлении была присуща абсолютному идеализму Шеллинга и Гегеля и впоследствии унаследована метафизикой Соловьева, откуда, скорей всего, и воспринял ее Шмелев. «Без “достаточного основания” ведь ничего случиться не может… И раз уж что случается, то, значит, не могло не случиться. Именно “случайного” вообще не бывает, – излагает эту особенность философии Соловьева Г. Флоровский. – У Соловьева этот пафос абсолютного обоснования был всегда очень острым. Он прямо и учил о предопределении»61. Мысли Вейденгаммера (разделяемые и автором) о том, что все случившееся с ним происходило согласно «Плану», очень близки этому учению.
Хотя М. Дунаев, анализируя роман, и отождествляет понятие «Плана» с Промыслом62, в художественной ткани романа эти понятия далеко не всегда совпадают. Согласно христианскому богословию, Бог предвидит, но не предопределяет события. Промыслительные вмешательства Божественной воли способствуют направлению души к спасению, но не лишают человека свободы воли. Персонажи «Путей небесных» близки к православному пониманию Промысла, когда рассуждают о «знаках» как бы подсказках, подаваемых Господом, или о возможности для Него направлять зло к добру, но иногда склоняются к мысли о фатальной предначертанности явлений. Виктор Алексеевич постоянно упоминает о «Божественных чертежах», Планах как схемах, но сама эта образность неадекватна: судьбы человечества видны Богу, но не начертаны им, а совершены свободной волей человечества начиная от грехопадения первых людей. Между тем в «философических» построениях Вейденгаммера встречаются такие фразы: «Постиг он и другое, важнейшее: все в его жизни… было как бы предначертано в Плане наджизненном»; «я чувствовал, что я уже нахожусь в определившемся плане, и все совершается по начертанным чертежам, путям. Я знал, что она необычайная, назначенная. И ей умереть нельзя» и т. п. Особенное смущение вызывают слова героя, усматривающего Божественный план «даже в грехопадениях, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать путей», дающие повод исследователям справедливо заключить, что «герои оказываются беспомощными перед страстями, а в самом понятии Пути начинает отсвечивать едва ли не фатальность»63.
Мы можем предполагать, в каком направлении должно было идти дальнейшее развитие романа, в частности, как автор планировал изобразить монашество. Шмелев очень серьезно относился к этой теме своей книги. «Иван Сергеевич… говорил о том, что в этом 3-м томе ему хотелось выявить многое из жизни русских монастырей и русских старцев, их значение в русской культуре и в духовном их водительстве русского народа»64. С середины 30-х годов Шмелев изучает жизнь Оптиной Пустыни, собирает материалы о старцах, интересуется личностью прп. Амвросия, выписывает его изречения. Письма Шмелева исполнены опасений: «Где найду сил показать старца? Зосима – не то. И как скудно о старце Амвросии. Его надо вообразить»; «Ох, сорвусь на “старце”. Не задался он и великому Достоевскому. Зосима – отвлеченность (схема)»; «Как я перевоплощусь в “старца”?! А – надо, помоги, Господи»65.
Сомнения в успешности воплощения монастыря и старца в качестве новой художественной задачи выглядят в устах автора написанных уже «Богомолья» и «Старого Валаама» несколько странно, кроме того, в романе уже воплощены и монастырь (Страстной, с описанием быта его насел ьниц), и старец (Варнава Гефсиманский). Образ Варнавы воссоздан в его смиренном облике и нескольких скупых, но полных любви фразах, духовных советах – точно так же, как и в «Богомолье», и в очерке «У старца Варнавы». Очень важно, что старец у Шмелева не пытается выразить никакой философии или отвлеченного богословствования, ему не свойственны ни пространное морализаторство, ни психологические откровения, как для Зосимы у Достоевского.
Очевидно, в третьем томе Шмелев намеревался воссоздать образ старца (прп. Амвросия) по-иному, сделать его многограннее и детализированнее. Не исключено, что писатель хотел вступить в своеобразное состязание с Достоевским (Зосима постоянно стоял перед шмелевским взором). Но очевидна и опасность пути, по которому намеревался пойти Шмелев – вкладывания в уста подвижника каких-либо религиозных идей и представлений.
Ю. Кутырина публикует одну из записей Шмелева, сделанную еще в 1925 году, в которой обнаруживаются соловьевско-символистские идеи: «Верую, что человек есть орудие – средство преобразить мир, сделать его воистину Ликом Божиим – Видимым Богом. Человечество… лишь инструмент. Цель – Красота и Гармония всего сущего». Этот символ веры, характерный для Шмелева середины 1920-х годов, удивляет тем, с какой легкостью «венец творения» с бессмертной и драгоценной душой, который со времен «Человека из ресторана» был для писателя всегда предметом высокой любви и сострадания, низведен до уровня «средства» и даже «инструмента». Но в данном случае важна пометка (более поздняя) под приведенными рассуждениями: «Это надо ввести в уста старца Оптиной Пустыни в “Путях небесных”, но, конечно, в другом словесном складе»66.