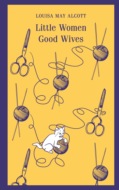Kitabı oku: «Chocolat / Шоколад», sayfa 4
6
Saturday, February 15
School finished early today. By twelve the street was rampant with cowboys and Indians in bright anoraks and denim jeans, dragging their schoolbags – the older ones dragging on illicit cigarettes, with turned-up collars and half a nonchalant eye to the display window as they pass. I noticed one boy walking alone, very correct in grey overcoat and beret, his school cartable perfectly squared to his small shoulders. For a long moment he stared in at the window of La Celeste Praline, but the light was shining on the glass in such a way that I did not catch his expression. Then a group of four children of Anouk’s age stopped outside, and he moved on. Two noses snubbed briefly against the window, then the children retreated into a cluster as the four emptied pockets and pooled resources. A moment of hesitation as they decided who to send in. I pretended to be occupied with something behind the counter.
Не думай, будто я виню Вианн Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она – лишь одно из проявлений зла, с которыми я должен бороться изо дня в день. Но как подумаю о лавке с нарядным навесом, насмешка над воздержанием, над верой… Встречая прихожан у церкви, я краем глаза ловлю движение за витриной. «Попробуй меня. Отведай. Вкуси». В минуты затишья между псалмами я слышу, как гудит фургон, остановившись перед шоколадной. Читая проповедь – проповедь, mon pе´re! – я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание фантиков…
Утром моя проповедь была суровее обычного, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра они поплатятся. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.
6
15 февраля, суббота
Уроки сегодня закончились рано. К полудню улицу заполонили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах – маленькие прячут учебники в ранцы или портфели, большие прячут в ладонях сигареты. Проходя мимо лавки, те и другие вроде как равнодушно косятся над поднятыми воротниками на витрину. Я замечаю мальчика в сером пальто и берете – подтянут, собран; школьный ранец идеально ровно сидит на детских плечиках. Мальчик идет один. У «Небесного миндаля» замедляет шаг, разглядывая витрину, но свет от стекла отражается, и я не вижу лица. Рядом останавливаются четверо ребятишек, ровесников Анук, и мальчик спешит удалиться. К витрине прижимаются два носа, потом все четверо пятятся и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуту решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком.
“Madame?”
A small, smudgy face peered suspiciously up at me. I recognized the wolf from the Mardi Gras parade.
“Now, I have you down as a peanut brittle man.” I kept my face serious, for this purchase of sweets is serious business. “It’s good value, easy to share, doesn’t melt in your pockets and you can get”– I indicated with hands held apart – “oh, this much at least for five francs. Am I right?”
No answering smile, but a nod, as of one businessman to another. The coin was warm and a little sticky. He took the packet with care.
“I like the little gingerbread house,” he said gravely. “In the window.”
In the doorway the three others nodded shyly, pressing together as if to give themselves courage.
“It’s cool.”
The American word was uttered with a kind of defiance, like smoke from a secret cigarette. I smiled.
– Мадам?
На меня подозрительно таращится чумазое личико. Я узнаю Волка с карнавального шествия.
– Сразу видно, что ты любитель карамели с арахисом, – говорю я серьезно, ибо покупка конфет – серьезное дело. – Хороший выбор. Легко поделиться, в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, – я показываю руками, – всего-то пять франков. Верно?
Вместо улыбки мальчик кивает, как деловой человек деловому человеку. Его монетка теплая и чуть липкая. Он осторожно берет с прилавка пакетик и заявляет важно:
– Мне нравится пряничный домик. Тот, что в витрине.
Его друзья робко кивают от дверей, где стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости.
– Круто.
Жаргонное словечко он произносит смачно, с вызовом, словно тайком закуривает.
“Very cool,” I agreed. “If you like, you and your friends can come over and help me eat it where I take it down.”
Eyes widened.
“Cool!”
“Hypercool”
“When?”
I shrugged.
“I’ll tell Anouk to remind you,” I told them. “That’s my little girl.”
“We know. We saw her. She doesn’t go to school.”
This last was uttered with some envy..
“She will on Monday. It’s a pity she doesn’t have any friends yet, because I told her she could ask them over. You know, to help me with the displays.”
Feet shuffled, sticky hands held out, shoving and pushing to be first in line.
“We can”
“I can—”
“I’m Jeannot ”
“Claudine—”
“Lucie.”
I sent them out with a sugar mouse each and watched them fan across the square like dandelion seeds in the wind. A slice of sunlight glanced off their backs one after the other as they ran – red-orange-green-blue – then they were gone. From the shaded arch of St Jeromes I saw the priest, Francis Reynaud, watching them with a look of curiosity and, I thought, disapproval. I felt a moment’s surprise. Why should he disapprove? Since his duty visit on our first day he has not called again, though I have heard of him often from other people. Guillaume speaks of him with respect, Narcisse with temper, Caroline with that archness which I sense she adopts when speaking of any man under fifty. There is little warmth in their speech. He is not a local, I understand. A Paris seminarian, all his learning from books he does not know the land, its needs, its demands. This from Narcisse, who has had a running feud with the priest ever since he refused to attend Mass during the harvesting season. A man who does not suffer fools, says Guillaume, with that small gleam of humour from behind his round spectacles, that is to say so many of us, with our foolish little habits and our unbreakable routines. He pats Charly’s head affectionately as he says it, and the dog gives his single, solemn bark.
– Очень круто, – улыбаюсь я. – Если хочешь, приходи сюда с друзьями, когда я уберу дом с витрины. Поможете мне его съесть.
Он таращит глаза.
– Круто!
– Супер!
– А когда?
Я пожимаю плечами.
– Я скажу Анук, она вам передаст. Анук – моя дочь.
– Мы знаем. Мы ее видели. Она не ходит в школу.
Последняя фраза произнесена с завистью.
– В понедельник пойдет. Жалко, что у нее тут пока нет друзей, – я ей разрешила их пригласить. Помочь мне украсить витрину.
Шаркают подошвы, липкие ладошки тянутся вверх, ребята пихаются и толкаются.
– Мы можем…
– Я могу…
– Я – Жанно…
– Клодин…
– Люси…
На прощание я подарила каждому по сахарной мышке и смотрела, как они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Одна за другой их куртки полыхнули на солнце – красный, оранжевый, зеленый, голубой, – и вот они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади Святого Иеронима священника Франсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, по-моему, с осуждением во взоре. Вот ведь странно. Чем он недоволен? Он не заходил в лавку с тех пор, как засвидетельствовал свое почтение в наш первый день в городе, но я много о нем слышала. Гийом говорил о нем почтительно, Нарсисс – раздраженно, Каролина – кокетливо, с озорным лукавством, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше пятидесяти. Они отзываются о нем без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт – из книг, он не знает этого края, его нужд, его потребностей. Это мнение Нарсисса – он враждует со священником с тех самых пор, как отказался посещать службы во время уборочной страды. Он не выносит человеческой глупости, говорит Гийом – глаза насмешливо блестят за круглыми стеклами очков, – то есть фактически весь род людской, ибо у каждого из нас есть глупые привычки и пристрастия, от которых мы не в силах отказаться. Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове, и пес, будто соглашаясь, важно вторит ему коротким отрывистым лаем.
“He thinks it’s ridiculous to be so devoted to a dog,” said Guillaume ruefully. “He’s far too polite to say so, but he thinks it’s inappropriate. A man of my age…”
Before his retirement Guillaume was a master at the local school. There are only two teachers there now to deal with the falling numbers, though many of the older people still refer to Guillaume as le maitre d’ecole. I watch as he scratches Charly gently behind the ears, and I am sure I sense the sadness I saw in him at the carnival; a furtive look which is almost guilt.
– Он считает, глупо так привязываться к собаке, – с грустью жалуется Гийом. – Как человек тактичный, вслух он этого не говорит, но думает, что я веду себя неподобающе. В моем возрасте…
Гийом, пока не вышел на пенсию, был директором местной школы, где теперь остались всего два учителя, поскольку учеников все меньше, однако многие жители постарше до сих пор называли его maître d’e#cole. Глядя, как он ласково чешет Чарли за ушами, я чувствовала, что его гложет печаль, – я заметила ее еще на карнавале; затаенная скорбь, почти вина.
“A man of any age can choose his friends where he likes,” I interrupted with some heat. “Perhaps monsieur le cure could learn a few things from Charly himself.”
Again that sweet, sad almost-smile.
“Monsieur le cure tries his best,” he told me gently. “We should not expect more.”
I did not answer. In my profession it is a truth quickly learned that the process of giving is without limits. Guillaume left La Praline with a small bag of florentines in his pocket; before he had turned the comer of Avenue des Francs Bourgeois I saw him stoop to offer one to the dog. A pat, a bark, a wagging of the short stubby tail. As I said, some people never have to think about giving.
The village is less strange to me now. Its inhabitants too. I am beginning to know faces, names; the first secret skeins of histories twisting together to form the umbilical which will eventually bind us. It is a more complex place than its geography at first suggests, the Rue Principale forking off into a hand-shaped branch of laterals – Rue des Poetes, Avenue des Francs Bourgeois, Ruelle des Freres de la Revolution – someone amongst the town planners had a fierce republican streak: My own square, Place Saint-Jerome, is the culmination of these reaching fingers, the church standing white and proud in an oblong of linden trees, the square of red shingle where the old men play petanque on fine evenings: Behind it, the hill falls away sharply towards that region of narrow streets collectively called Les Marauds.
– Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению, – с жаром перебиваю я. – Возможно, monsieur le cure# не мешало бы и самому поучиться у Чарли.
Опять та же добрая грустная полуулыбка.
– Monsieur le cure# старается, как может, – мягко говорит Гийом. – Не надо требовать от него большего.
Я промолчала. Щедрые люди щедры во всем. В моем ремесле быстро постигаешь эту нехитрую истину. Гийом покинул «Небесный миндаль», унося в кармане пакетик вафель в шоколаде. На углу улицы Вольных Граждан он наклонился и угостил вафлей Чарли. Погладил пса; тот гавкнул, вильнул куцым хвостом. Говорю же: некоторые люди щедры, не задумываясь.
Городок уже не кажется мне чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица, имена; наматывается клубок первых историй, они сплетаются в пуповину, что однажды свяжет нас. Ланскне сложен, чего поначалу не скажешь по его незатейливой географии: от главной улицы, словно пальцы на руке, расходятся боковые ответвления – проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства; очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем Республики. И все эти пальцы тянутся к площади Святого Иеронима, где поселилась я. Тут среди лип гордо возвышается белая церковь, погожими вечерами старики играют в шары прямо на красных булыжниках. За площадью в низине лежит район с собирательным названием Марод – переплетение узких улочек, скопление глухих, покосившихся деревянно-кирпичных домишек, что пятятся к Танну по неровной мостовой.
This is Lansquenet’s tiny slum, close half-timbered houses staggering down the uneven cobbles towards the Tannes. Even there it is some distance before the houses give way to marshland; some are built on the river itself on platforms of rotting wood, dozens flank the stone embankment, long fingers of damp reaching towards their small high windows from the sluggish water. In a town like Agen, Les Marauds would attract tourists for its quaintness and rustic decay. But here there are no tourists. The people of Les Marauds are scavengers, living from what they can reclaim from the river. Many of their houses are derelict; elder trees grow from the sagging walls.
I closed La Praline for two hours at lunch and Anouk and I went walking down towards the river. A couple of skinny children dabbled in the green mud by the waterside; even in February there was a mellow stink of sewage and rot. It was cold but sunny, and Anouk was wearing her red woollen coat and hat, racing along the stones and shouting to Pantoufle scampering in her wake. I have become so accustomed to Pantouffe – and to the rest of the strange menagerie which she trails in her bright wake – that at such times I can almost see him clearly; Pantoufle with his grey-whiskered face and wise eyes, the world suddenly brightening as if by a strange transference I have become Anouk, seeing with her eyes, following where she travels. At such times I feel I could die for love of her, my little stranger; my heart swelling dangerously so that the only release is to run too, my red coat flapping around my shoulders like wings, my hair a comet’s tail in the patchy blue sky.
Трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома стоят прямо на реке, на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной; длинные щупальца сырого смрада тянутся от стоячей воды к окошкам под самыми крышами. В городах вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся Марод стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне туристов нет. Обитатели Марода – мусорщики, они живут на то, что удается выудить из реки. Здесь почти все дома заброшены; из просевших стен прорастают старые деревья.
В обед я на два часа закрыла «Небесный миндаль», и мы с Анук отправились к реке. У самой воды барахтались в зеленой грязи двое тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стоит сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук, в красном шерстяном плаще и шапке, носилась по камням, громко беседуя с Пантуфлем, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к Пантуфлю – как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за Анук незримыми тенями, – что порой мне кажется, я почти вижу его – странное существо с серыми усами и мудрыми глазами, и дивная метаморфоза неожиданно расцвечивает мир, и я превращаюсь в Анук – смотрю ее глазами, хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Мое сердце разбухает, едва не лопается, и я, чтоб и впрямь не умереть от избытка чувств, тоже бегу со всех ног, и мой красный плащ развевается за плечами, будто крылья, волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе.
A black cat crossed my path and I stopped to dance around it widdershins and to sing the rhyme:
Ou va-t-i, mistigri?
Passe sans faire de mal ici.
Anouk joined in and the cat purred, rolling over into the dust to be stroked. I bent down and saw a tiny old woman watching me curiously from the angle of a house. Black skirt, black coat, grey hair coiled and plaited into a neat, complex bun. Her eyes were sharp and black as a bird’s. I nodded to her.
“You’re from the chocolaterie,” she said.
Despite her age which I took to be eighty, maybe more – her voice was brisk and strongly accented with the rough lilt of the Midi.
“Yes, I am.”
I gave my name.
“Armande Voizin,” she said. “That’s my house over there.” She nodded towards one of the river-houses, this one in better repair than the rest, freshly whitewashed and with scarlet geraniums in the window boxes. Then, with a smile which worked her apple-doll face into a million wrinkles, she said, “I’ve seen your shop. Pretty enough, I’ll grant you that, but no good to folks like us. Much too fancy.” There was no disapproval in her voice as she spoke, but a half laughing fatalism. “I hear our m’sieur le cure already has it in for you,” she added maliciously. “I suppose he thinks a chocolate shop is inappropriate in his square.” She gave me another of those quizzical, mocking glances. “Does he know you’re a witch?” she asked.
Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая:
Ou-ti-i, mistigri?
Passe sans faire de mal ici.
Анук подпевала мне, кот с урчанием повалился в пыль и перевернулся на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклонилась к нему и заметила щуплую старушку – она с любопытством наблюдала за мной из-за угла. Черная юбка, черный плащ, заплетенные в косу седые волосы уложены на голове в аккуратный сложный узел, глаза внимательные и черные, как у птицы. Я кивнула ей.
– Ты – хозяйка chocolaterie, – сказала она.
Несмотря на возраст – лет восемьдесят, должно быть, если не больше, – у нее звучный, резкий и оживленный голос южанки.
– Да, верно.
Я назвала себя.
– Арманда Вуазен, – представилась старушка. – А вон мой дом. – Она кивком показала на один из домиков у реки – опрятнее остальных, со свежей побелкой и алой геранью в ящиках за окнами. Потом улыбнулась, отчего ее розовое кукольное личико собралось в миллионы морщинок. – Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас. Чересчур броский. – В ее тоне не было неодобрения – только ироничная обреченность. – Я слышала наш m’sieur le cure# уже против тебя ополчился, – язвительно добавила она. – Надо полагать, он считает, что шоколадной не подобает стоять на его площади. – Вновь посмотрела насмешливо, вопросительно: – Ему известно, что ты ведьма?
Witch, witch. It’s the wrong word, but I knew what she meant.
“What makes you think that?”
“Oh, it’s obvious. Takes one to know one, I expect,” and she laughed, a sound like violins gone wild. “M’sieur le Cure doesn’t believe in magic,” she said. “Tell you the truth, I wouldn’t be so sure he even believes in God.” There was indulgent contempt in her voice. “He has a lot to learn, that man, even if he has got a degree in theology. And my silly daughter too. You don’t get degrees in life, do you?”
I agreed that you didn’t, and enquired whether I knew her daughter.
“I expect so. Caro Clairmont. The most empty-headed piece of foolishness in all of Lansquenet. Talk, talk, talk, and not a particle of sense.”
Ведьма, ведьма. Слово неверное, но я поняла, о чем она.
– Почему вы так решили?
– О, это же очевидно. Рыбак рыбака видит издалека. – Смех – точно какофония взбесившихся скрипок. – M’sieur le cure# не верит в чудеса, – сказала она. – По правде говоря, я подозреваю, что он и в Бога не верит. – Ее голос полон снисходительного презрения. – Хоть и имеет диплом богослова, а ему еще учиться и учиться. И моей глупой дочери тоже. В институтах ведь жизни не учат, а?
Я согласилась и спросила, знаю ли ее дочь.
– Да уж думаю. Каро Клермон. Безмозглая финтифлюшка, глупее не сыскать во всем Ланскне. Говорит, говорит, говорит – и хоть бы слово разумное сказала.
She saw my smile and nodded cheerily.
“Don’t worry, dear, at my age nothing much ends me any more. And she takes after her father, you know. That’s a great consolation.” She looked at me quizzically. “You don’t get much entertainment around here,” she observed. “Especially if you’re old.” She paused and peered at me again. “But with you I think maybe we’re in for a ‘ little amusement.”
Her hand brushed mine like a cool breath. I tried to catch her thoughts, to see if she was making fun of me, but ail I felt was humour and kindness.
“It’s only a chocolate shop,” I said with a smile.
Armande Voizin chuckled.
“You really must think I was born yesterday,” she observed.
“Really, Madame Voizin—”
“Call me Armande.” The black eyes snapped with amusement. “It makes me feel young.”
“All right. But I really don’t see why—”
“I know what wind you blew in on,” said Armande keenly. “I felt it. Mardi Gras, carnival day. Les Marauds was full of carnival people; gypsies, Spaniards, tinkers, pieds-noirs and undesirables. I knew you at once, you and your little girl what are you calling yourselves this time?”
“Vianne Rocher.” I smiled. “And this is Anouk.”
“Anouk,” repeated Armande softly. “And the little grey friend – my eyes aren’t as good as they used to be – what is it? A cat? A squirrel?”
Увидев, что я улыбаюсь, она весело кивнула.
– Не беспокойся, дорогая, меня в моем возрасте уже ничем не оскорбить. А она вся в отца. Великое утешение. – Старушка вгляделась в меня. – Здесь мало чем можно поразвлечься, – заметила она. – Особенно в старости. – Она помолчала, всмотрелась пристальнее. – Но пожалуй, с тобой мы все же позабавимся.
Ее голова коснулась моей, и меня словно обдало свежим дыханием. Я попыталась уловить ее мысли, понять, не издевается ли она, но поймала только доброту и веселье.
– Я просто торгую шоколадом, – с улыбкой сказала я.
Арманда Вуазен фыркнула.
– Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась.
– В самом деле, мадам Вуазен…
– Зови меня Армандой. – Черные глаза заискрились смехом. – Так я чувствую себя моложе.
– Хорошо. Но я в самом деле не понимаю…
– Я знаю, каким ветром тебя занесло, – перебила она. – Сразу почувствовала. Ты пришла с карнавалом. В Мароде полно карнавальных: цыгане, испанцы, бродячие ремесленники, выходцы из Алжира, прочий сброд. Я вас сразу узнала – тебя и твою малышку. Как теперь вы себя называете?
– Вианн Роше, – улыбнулась я. – А это – Анук.
– Анук, – ласково повторила Арманда. – А твой серенький дружок – зрение у меня теперь не такое острое, как прежде, – кто он? Кот? Бельчонок?
Anouk shook her curly head. “He’s a rabbit,” she said with cheery scorn. “Called Pantoufle.”
“Oh, a rabbit. Of course.” Armande gave me a sly wink. “You see, I know what wind you blew in on. I’ve felt it myself once or twice. I may be old, but no-one can pull the wool over my eyes. No-one at all.”
I nodded.
“Maybe that’s true,” I said. “Come over to La Praline one day; I know everyone’s favourite. I’ll treat you to a big box of yours.”
Armande laughed.
“Oh, I’m not allowed chocolate. Caro and that idiot doctor won’t allow it. Or anything else I might enjoy,” she added wryly. “First smoking, then alcohol, now this… God knows, if I gave up breathing perhaps I might live for ever.” She gave a snort of laughter, but it had a tired sound, and I saw her raise a hand to her chest in a clutching gesture eerily reminiscent of Josephine Muscat. “I’m not blaming them, exactly,” she said. “It’s just their way. Protection – from everything. From life. From death.” She gave a grin which was suddenly very gamine in spite of the wrinkles. “I might call in to see you anyway,” she said. “If only to annoy the cure.”
I pondered her last remark for some time after she disappeared behind the angle of the whitewashed house. Some distance away Anouk was throwing stones onto the mud flats at the riverbank.
Анук качнула кудрявой головой и с бодрым пренебрежением доложила:
– Это кролик. И зовут его Пантуфль.
– Ах, кролик. Ну конечно же. – Арманда лукаво подмигнула мне. – Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала его дыхание. Может, я и стара, но меня никому не одурачить. Никому.
Я кивнула.
– Может, и так. Приходите как-нибудь в «Миндаль». Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку.
Арманда рассмеялась.
– О, шоколад мне нельзя. Каро и этот врач-недоумок запрещают. Как, впрочем, и все остальное, что меня радует, – усмехнулась она. – Сначала запретили курить, потом пить, теперь это… Бог знает, наверное, еще надо бы перестать дышать, тогда, глядишь, буду жить вечно. – Она хохотнула, но как-то устало, прижала руку к груди – и мне стало жутко: я вспомнила Жозефину Мускат. – Я их не виню, – продолжала Арманда. – Они так живут. От всего защищаются. От жизни. От смерти. – Она улыбнулась и вдруг стала похожа на проказливого сорванца, несмотря на морщины. – Пожалуй, я к тебе все равно зайду, – сказала она. – Хотя бы для того, чтоб досадить кюре.
Она скрылась за углом своего беленого дома, а я задумалась над ее последней фразой. Анук неподалеку швыряла камни на обнажившийся берег у самой кромки воды.
The cure. It seemed his name was never far from the lip’s. For a moment I considered Francis Reynaud.
In a place like Lansquenet it sometimes happens that one person – schoolteacher, cafe proprietor, or priest forms the lynchpin of the community. That this single individual is the essential core of the machinery which turns lives, like the central pin of a clock mechanism, sending wheels to turn wheels, hammers to strike, needles to point the hour. If the pin slips or is damaged, the clock stops. Lansquenet is like that clock, needles perpetually frozen at a minute to midnight, wheels and cogs turning uselessly behind the bland blank face. Set a church clock wrong to fool the devil, my mother always told me. But in this case I suspect the devil is not fooled.
Not for a minute.