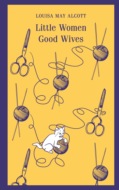Kitabı oku: «Chocolat / Шоколад», sayfa 5
7
Sunday, February 16
My mother was a witch. at least, that’s what she called herself, falling so many times into the game of believing herself that at the end there was no telling fake from fact. Armande Voizin reminds me of her in some ways; the bright, wicked eyes, the long hair which must have been glossy black in her youth, the– blend of wistfulness and cynicism. From her I learned what shaped me. The art of turning bad luck into good. The forking of the fingers to divert the path of malchance. The sewing of a sachet, brewing of a draught, the conviction that a spider brings good luck before midnight and bad luck after. Most of all she gave me her love of new places, the gypsy wanderlust which took us all over Europe and further; a year in Budapest, another in Prague, six months in Rome, four in Athens, then across the Alps to Monaco, along the coast, Cannes, Marseille, Barcelona… By my eighteenth year I had lost count of the cities in which we had lived, the languages we had spoken. Jobs were as varied; waitressing, interpreting, car repair. Sometimes we escaped from the windows of cheap overnight hotels without paying the bill. We rode trains without tickets, forged work permits, crossed borders illicitly. We were deported countless times. Twice my mother was arrested, but released without charge. Our names changed as we moved, drifting from one regional variant to another; Yanne, Jeanne, Johanne, Giovanna, Anne, Anouchka. Like thieves we were perpetually on the run, converting the unwieldy ballast of life into francs, pounds, kroner, dollars, as we fled where the wind took us.
Кюре. Кажется, я только о нем и слышу. Я стала размышлять о Франсисе Рейно.
Так уж порой случается, что в городках вроде Ланскне тон всему обществу задает один человек – школьный учитель, владелец кафе или священник. Человек этот – сердцевина механизма, вращающего ход жизни. Как пружина в часах приводит в движение колесики, что крутят другие колесики, заставляют стучать молоточки и перемещают стрелки. Если пружина соскочит или сломается, часы остановятся. Ланскне – как сломанные часы: стрелки неизменно показывают без минуты полночь, колесики и зубчики вхолостую вращаются за угодливым никчемным циферблатом. Поставь на церковных часах неправильное время, если хочешь провести дьявола, говорила моя мама. Но тут, я подозревала, дьявол не поддался обману.
Ни на минуту.
7
16 февраля, воскресенье
Моя мать была ведьмой. По крайней мере, называла себя ведьмой, а частенько искренне в это верила, так что в конце концов уже нельзя было определить, притворяется она или колдует по-настоящему. Арманда Вуазен чем-то напоминала ее: блестящие коварные глаза, длинные волосы, некогда, вероятно, иссиня-черные и блестящие, мечтательность вкупе с цинизмом. От матери я научилась всему, из чего я создана. Искусству обращать поражение в успех, вытягивать вилкой пальцы, дабы отвратить беду, шить саше, варить зелье, верить в то, что встреча с пауком до полуночи приносит удачу, после – несчастье… Но главное, она передала мне свою любовь к перемене мест, цыганскую непоседливость, что гнала нас скитаться по всей Европе и за ее пределами: год в Будапеште, следующий – в Праге, полгода в Риме, четыре года – в Афинах, затем через Альпы в Монако и вдоль побережья – Канны, Марсель, Барселона… К восемнадцати годам я потеряла счет городам, в которых мы жили, и языкам, на которых говорили. На жизнь мы тоже зарабатывали по-всякому: нанимались официантками, переводчиками, ремонтировали машины. Иногда покидали дешевые отели, где останавливались на одну ночь, через окно, не оплатив счет. Ездили на поездах без билетов, подделывали разрешения на работу, нелегально пересекали границы. Нас депортировали бессчетное число раз. Мать дважды арестовывали, но отпускали, не предъявив обвинения. И имена мы переиначивали на ходу, подстраиваясь под местные традиции: Янна, Жанна, Джоанн, Джованна, Анна, Анну#шка… Гонимые ветром, мы, словно преступники, постоянно находились в бегах, переводя громоздкий жизненный багаж в франки, фунты, кроны, доллары…
Don’t think I suffered; life was a fine adventure for those years. We had each other, my mother and I. I never felt the need for a father. My friends were countless. And yet it must have preyed upon her sometimes, the lack of permanence, the need always to contrive. Still we raced faster as the years wore on, staying a month, two at the most, then moving on like fugitives racing the sunset. It took me some years to understand that it was death we fled.
Не думайте, будто я страдала; в те годы жизнь была чудесным приключением. Нам было хорошо, мне и маме. В отце я никогда не нуждалась. У меня было много друзей. И все же, видимо, эта неустроенность – вечные скитания, необходимость постоянно экономить – порой угнетала ее. Но мы продолжали мерить дороги, с годами все быстрее – задерживались в одном месте на месяц, в крайнем случае на два, а потом вновь пускались в путь, точно изгнанники в погоне за последними лучами солнца. Лишь через много лет я поняла, что убегали мы от смерти.
She was forty. It was cancer. She’d known for some time, she told me, but recently… No, there was to be no hospital. No hospital, did I understand? There were months, years left in her and she wanted to see America: New York, the Florida Everglades. We were moving almost every day now, Mother reading the cards at night when she thought I was asleep. We boarded a cruiser from Lisbon, both of us working in the kitchens. Finishing at two or three every morning, we rose at dawn. Every night the cards, slippery to the touch with age and respectful handling, were laid out on the bunk beside her. She whispered their names to herself, sinking deeper every day into the mazy confusion which would eventually claim her altogether.
Ten of Swords, death. Three of Swords, death. Two of Swords, death. The Chariot. Death.
The Chariot turned out to be a New York cab one summer evening as we shopped for groceries in the busy Chinatown streets. It was better than cancer, in any case.
Ей было сорок. Она умирала от рака. Она уже давно знает, призналась она, но в последнее время… Нет, в больницу она не ляжет. Никаких больниц, ясно? Ей осталось жить считаные годы, может, месяцы, а она еще хочет посмотреть Америку: Нью-Йорк, флоридский парк Эверглейдс… Теперь мы почти каждый день проводили в дороге. Мать по ночам, думая, что я сплю, гадала на картах. В Лиссабоне мы сели на пароход – нанялись работницами на кухню. Освобождались в два-три часа ночи, поднимались с рассветом. И что ни ночь – карты. Засаленные от времени и почтительного прикосновения пальцев, они ложились на койку. Мама тихо бубнила себе под нос их названия, день ото дня все глубже погружаясь в пучину путаного бреда, который в конечном итоге завладел ею полностью.
«Десятка мечей, смерть. Тройка мечей, смерть. Двойка мечей, смерть. Колесница. Смерть».
Колесницей оказалось нью-йоркское такси, когда однажды летним вечером мы закупали продукты на запруженных улочках китайского квартала. Уж лучше такси, чем рак.
When my daughter was born nine months later I called her after both of us. It seemed appropriate. Her father never knew her – nor am I sure which one he was in the wilting daisy-chain of my brief encounters. It doesn’t matter. I could have peeled an apple at midnight and thrown the rind over my shoulder to know his initial, but I never cared enough to do it. Too much ballast slows us down.
And yet… Since I left New York, haven’t the winds blown less hard, less often? Hasn’t there been a kind of wrench every time we leave a place, a kind of regret? I think there has. Twenty-five years, and at last the spring has begun to grow tired, just as my mother grew tired in the final years. I find myself looking at the sun and wondering what it would be like to see it rise above the same horizon for five – maybe ten, maybe twenty – years: The thought fills me with a strange dizziness, a feeling of fear and longing. And Anouk, my little stranger? I see the brave adventure we lived for so long in a different light now that I am the mother. I see myself as I was, the brown girl with the long uncombed hair, wearing cast-off charity-shop clothing, learning maths the hard way, geography the hard way. How much bread for two francs? How far will a fifty-mark rail ticket take us? – and I do not want it for her. Perhaps this is why we have stayed in France for the last five years. For the first time in my life, I have a bank account. I have a trade.
Спустя девять месяцев родилась моя дочь, и я назвала ее в честь себя и матери. Сочла, что это самое подходящее имя. Ее отец о ней даже не подозревал, да я и сама точно не знаю, от которого из увядшего венка любовников я зачала. Но это не имело значения. Можно было бы очистить яблоко в полночь и, бросив кожуру через плечо, выяснить инициалы отца моей дочери, но меня это никогда не интересовало. Лишний балласт только тормозит.
И все же… Разве не ослабли ветры, не стали дуть реже, с тех пор как я покинула Нью-Йорк? Разве не щемит сердце, разве не сожалею я смутно всякий раз, когда мы вновь срываемся с места? Да, пожалуй. Двадцать пять лет скитаний, и вот наконец пружина во мне начала изнашиваться, я теряю задор, как мать растеряла в последние годы. Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на солнце и пытаюсь представить, каково это – наблюдать восход над одним и тем же горизонтом пять лет, или десять, или двадцать. При этой мысли у меня странно кружится голова, мною овладевают страх и тоска. А Анук, моя маленькая бродяжка? Теперь, когда я сама мать, наша жизнь, полная рискованных приключений, видится мне в несколько ином свете. Я вспоминаю себя в детстве: смуглая девочка с длинными растрепанными волосами, в обносках из магазинов для бедных, на своей шкуре постигала математику, постигала географию – сколько хлеба дадут на два франка? как далеко уедешь на поезде, заплатив за билет пятьдесят марок? – и понимаю, что не хочу для Анук такой судьбы. Может, поэтому последние пять лет мы не покидаем Франции. Впервые в жизни у меня появился счет в банке. Появилось собственное дело.
My mother would have despised all this. And yet perhaps she would have envied me too. Forget yourself if you can, she would have told me. Forget who you are. For as long as you am bear it. But one day, my girl, one day it will catch you. I know.
I opened as usual today. For the morning only – I’11 allow myself a half-day with Anouk this afternoon – but it’s Mass this morning and there will be people in the square. February has reasserted its drab self and now it is raining; a freezing, gritty rain which slicks the paving and colours the sky the shade of old pewter. Anouk reads a book of nursery rhymes behind the counter and keeps an eye on the door for me as I prepare a batch of mendiants in the kitchen. These are my own favourites – thus named because they were sold by beggars and gypsies years ago biscuit-sized discs of dark, milk or white chocolate upon which have been scattered lemon-rind, almonds and plump Malaga raisins. Anouk likes the white ones, though I prefer the dark, made with the finest 70 per cent couverture… Bitter-smooth on the tongue with the taste of the secret tropics. My mother would have despised this, too. And yet this is also a kind of magic.
Since Friday I have fitted a set of bar stools next to the counter of La Praline. Now it looks a little like the diners we used to visit in New York, red -leather seats and chrome stems, cheerily kitsch. The walls are a bright daffodil colour. Poitou’s old orange armchair lolls cheerily in one corner. A menu stands to the left, hand-lettered and coloured by Anouk in shades of orange and red:
Моя мать презирала бы меня за это. Но, наверное, и завидовала бы. Отрешись от себя, если можешь, сказала бы она мне. Забудь, кто ты есть. Не вспоминай, пока хватает сил. Но однажды, девочка моя, однажды оно тебя настигнет. Уж я-то знаю.
Сегодня шоколадная открыта, как всегда. Только до обеда – вторую половину дня проведу с Анук, – но утром в церкви служба, и на площади будет народ. Вновь воцарился унылый февраль: холодная морось выкрасила мостовые и небо в цвет старой оловянной тарелки. Анук за прилавком читает книжку с детскими стишками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне mendiants – «нищих»; они так называются потому, что в стародавние времена ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это мое любимое лакомство – кружочки черного, молочного или белого шоколада, а сверху тертая лимонная цедра, миндаль и пухлые ягоды изюма сорта малага. Анук любит белые mendiants, а я предпочитаю черные, из лучшей семидесятипроцентной шоколадной глазури… Приятная горечь неведомых тропиков. Моя мать и это бы презирала. И все-таки я тоже творила волшебство.
За те два дня, что прошли с пятницы, я купила и поставила у прилавка высокие табуреты, и теперь интерьер «Миндаля» смахивает на дешевые кафе, куда мы частенько наведывались в Нью-Йорке, – веселенький китч. Красные кожаные сиденья, хромированные ножки, стены цвета нарциссов, из угла весело подмигивает старое оранжевое кресло Пуату. Слева – меню. Анук сама написала и раскрасила в оранжевый и красный.
chocolat chaud 5f
chocolat cake 10f
I baked a cake last night, and the hot chocolate is standing in a pot on the hob, awaiting my first customer. I make sure that a similar menu is visible from the window and I wait.
Mass comes and goes. I watch the passers-by, morose beneath the freezing drizzle. My door, slightly open, emits a hot scent of baking and sweetness. I catch a number of longing glances at the source of this, but a flick of the eye backwards, a shrugging of the shoulders, a twist of the mouth which may be resolve or simply temper, and they are gone, leaning into the wind with rounded, miserable shoulders, as if an angel with a flaming sword were standing at the door to bar their entry.
Time, I tell myself. This kind of thing takes time.
But all the same, a kind of impatience, almost anger, penetrates me. What is wrong with these people? Why do they not come? Ten o’clock sounds, then eleven. I can see people going into the bakery opposite and coming out again with loaves tucked under their arms. The rain stops, though the sky remains grim. Eleven-thirty. The few people who still linger in the square turn homewards to prepare the Sunday meal. A boy with a dog skirts the corner of the church, carefully avoiding the dripping guttering. He walks past with barely a glance.
Горячий шоколад – 5 франков
Шоколадный пирог – 10 франков (кусок)
Пирог я испекла вечером, котелок горячего шоколада в печи дожидается первого посетителя. Такое же меню я повесила в витрине – чтобы видно было с улицы. Я жду.
Служба в церкви началась и окончилась. Я смотрю, как прихожане угрюмо бредут под холодной моросью. Дверь в шоколадную чуть приоткрыта, на улицу струится жаркий запах выпечки и сластей. Кое-кто бросают тоскливые взгляды на источник аромата, но тут же украдкой глядят на церковь, пожимают плечами, кривят губы – то ли решимость, то ли просто раздражение – и спешат мимо, сутуля на ветру понурые плечи, будто вход в шоколадную им преграждает ангел с огненным мечом.
Время, говорю я себе. На это нужно время.
И все же накатывает нетерпение, почти гнев. Что на этих людей нашло? Почему не заходят? Часы бьют десять, одиннадцать. Через площадь я вижу, как люди исчезают в дверях булочной и спустя несколько минут вновь появляются с батонами под мышками. Дождь прекратился, но небо по-прежнему серое. Половина двенадцатого. Те немногие, кто задержался на площади, расходятся по домам готовить воскресный обед. Мальчик с собакой огибает церковь, старательно уклоняясь от капель из желобов. Проходит мимо, едва удостоив взглядом витрину.
Damn them. Just when I thought I was beginning to get through. Why do they not come? Can they not see, not smell? What else do I have to do?
Anouk, always sensitive to my moods, comes to hug me.
“Maman, don’t cry.”
I am not crying. I never cry. Her hair tickles my face, and I feel suddenly dizzy with the fear that one day I might lose her.
“It isn’t your fault. We tried. We did everything right.”
True enough. Even to the red ribbons around the door, the sachets of cedar and lavender to repel bad influences. I kiss her head. There is moisture on my face. Something, perhaps the bittersweet aroma of the chocolate vapour, stings my eyes.
“It’s all right, Cherie. What they do shouldn’t affect us. We can at least have a drink to cheer ourselves up.”
We perch on our stools like New York barflies, a cup of chocolate each. Anouk has hers with creme Chantillyand chocolate curls; I drink mine hot and black, stronger than espresso. We close our eyes in the fragrant steam and see them coming – two; three, a dozen at a time, their faces lighting up, sitting beside us, their hard, indifferent faces melting into expressions of welcome and delight. I open my eyes quickly and Anouk is standing by the door. For a second I can see Pantoufle perched on her shoulder, whiskers twitching. The light behind her seems warmer somehow; altered. Alluring.
Будь они все прокляты. А я-то уже поверила, что начинаю приживаться здесь. Почему они не заходят? Ослепли, что ли? Или, может, у них носы заложило? Что еще мне сделать?
Анук всегда улавливает мое настроение. Подходит, обнимает меня.
– Не плачь, maman.
Я не плачу. Я никогда не плачу. Ее волосы щекочут мне лицо, и у меня неожиданно темнеет в глазах от страха, что однажды я могу ее потерять.
– Ты не виновата. Мы ведь старались. Все сделали как надо.
Совершенно верно. Вплоть до красных лент на двери и саше с кедром и лавандой – отвратить зло. Я целую ее в голову. На моем лице влага. Что-то – должно быть, горьковато-сладкие пары шоколада – жжет мне глаза.
– Все в порядке, cherie. Пусть живут как знают, нам нет до них дела. Давай лучше побалуем себя.
Мы налили себе по чашке шоколада и по примеру завсегдатаев нью-йоркских баров взгромоздились на табуреты у прилавка. Анук пьет шоколад со взбитыми сливками и шоколадной стружкой, я – горячий, черный, крепче эспрессо. Из чашек поднимается ароматный дымок, мы закрываем глаза и видим, как они заходят – по двое, по трое, по десять человек сразу; улыбаясь, они садятся рядом, суровая бесстрастность их лиц тает, они светятся гостеприимством и радостью. Я вздрагиваю, открываю глаза. Анук стоит у двери. Мгновение я вижу Пантуфля у нее на плече, он шевелит усами. Свет у нее за спиной будто смягчился, потеплел. Манит.
I jump to my feet.
“Please. Don’t do that.”
She gives me one of her darkling glances.
“I was only trying to help…”
“Please.”
For a second she faces me out, her face set stubbornly. Glamours swim between us like golden smoke. It would be so easy, she tells me with her eyes, so easy, like invisible fingers stroking, inaudible voices coaxing the people in…
“We can’t. We shouldn’t.” I try to explain to her.
It sets us apart. It makes us different. If we are to stay we must be as like them as possible. Pantoufle looks up at me in appeal, a whiskery blur against the golden shadows. Deliberately I close my eyes against him, and when I open them again, he is gone.
“It’s all right,” I tell Anouk firmly. “We’ll be all right. We can wait.”
And finally, at twelve-thirty, someone comes.
Anouk saw him first —
“Maman!” but I was on my feet at once. It was Reynaud, one hand shielding his face from the dripping canvas of the awning, the other hesitating at the door handle. His pale face was serene, but there was something in his eyes… a furtive satisfaction. I somehow understood he was not a customer. The bell tangled as he entered, but he did not walk up to the counter. Instead he remained in the doorway, the wind blowing the folds of his soutane into the shop like the wings of a black bird.
Я соскакиваю с табурета.
– Не надо, прошу тебя.
Взгляд у нее темнеет.
– Я же хочу помочь…
– Прошу тебя.
Она выдерживает мой взгляд, лицо упрямо застыло. Мы обе во власти чар, они окутывают нас золотистой дымкой. Это ведь так легко, проще простого, говорят ее глаза, словно невидимые пальцы ласкают, словно беззвучные голоса зазывают посетителей…
– Нельзя. Мы не должны так делать, – пытаюсь объяснить я.
Это выделяет нас. Делает иными. Если мы хотим остаться, нужно быть как они. Пантуфль – расплывчатый усатый силуэт на фоне золотистых теней – молча умоляет меня. Я зажмуриваюсь, заслоняюсь от него, а когда вновь открываю глаза, он уже исчез.
– Ничего страшного не происходит, – твердо говорю я. – У нас все будет хорошо. Можем и подождать.
И наконец в половине первого наше терпение вознаграждено.
Анук первая заметила посетителя.
«Maman!» – но я уже на ногах. Это Рейно. Одна ладонь прикрывает голову от капель с навеса, вторая зависает над дверной ручкой. Бледное лицо покойно, однако в глазах что-то мерцает – затаенное удовлетворение. Я догадываюсь, что он пришел не за сладостями. Звякает колокольчик. Рейно переступает порог, но к прилавку не идет. Остается в дверях, и на ветру полы его сутаны влетают в магазин крыльями черной птицы.
“Monsieur.” I saw him eye the red ribbons with mistrust. “Can I help you? I’m sure I know your favourites.”
I lapsed into my sales banter automatically, but it is untrue. I have no idea of this man’s tastes. He is a complete blank to me, a man-shaped darkness cut into the air. I feel no point of contact with him, and my smile broke on him like a wave on a rock. Reynaud gave me a narrow look of contempt.
“I doubt that.”
His voice was low and pleasant, but I sensed dislike behind the professional tones. I recalled Armande Voizin’s words – I hear our M’sieur le Cure already has it in for you. Why? An instinctive mistrust of unbelievers? Or can there be more? Beneath the counter I forked my fingers at him in secret.
“I wasn’t expecting you to be open today.”
He is more sure of himself now he thinks he knows us. His small, tight smile is like an oyster, milky-white at the edges and sharp as a razor.
“On a Sunday, you mean?”
I was at my most innocent.
– Мсье? – Он с подозрением смотрит на красные ленты. – Чем могу служить? Поверьте, я знаю, что вам нужно.
Добродушно-шутливым тоном я автоматически бросаю стандартные фразы, с которых обычно начинаю разговор с покупателями, но на сей раз лгу. Мне неведомы вкусы этого человека. Он для меня – загадка, темная человекообразная брешь в воздухе. Я не нахожу точек соприкосновения с ним, моя улыбка разбивается об него, как волна о камень. Он меряет меня презрительным взглядом.
– Сомневаюсь.
Говорит он тихо, вкрадчиво, как и подобает священнику, но в голосе я слышу неприязнь. Мне сразу вспоминаются слова Арманды Вуазен: «Я слышала, наш m’sieur le cure уже против тебя ополчился». Интересно, почему? Инстинктивное недоверие к безбожникам? Или что-то еще? Тайком под прилавком я вытягиваю пальцы вилкой, защищаясь от него.
– Вообще-то я не ожидал, что вы будете работать сегодня.
Теперь он увереннее – думает, что разгадал нас. Крохотная улыбка – точно устрица, губы молочно-белые по краям и тонкие как бритва.
– То есть в воскресенье?
Я – само простодушие.
“I thought I might catch the rush at the end of Mass:”
The tiny gibe failed to sting him.
“On the first Sunday of Lent?”
He sounded amused, but beneath the amusement, there was disdain. “I shouldn’t think so. Lansquenet folk are simple folk, Madame Rocher,” he told me. “Devout folk.” He stressed the word gently, politely.
“It’s Mademoiselle Rocher.”
Small victory, but enough to break his stride. His eyes flicked towards Anouk who was still sitting at the counter with the tall chocolate-glass in one hand. Her mouth was smeared with frothy chocolate, and I felt it again like the sudden sting of a concealed nettle – the panic, the irrational terror of losing her. But to whom? I shook the thought with growing anger. To him? Let him try.
“Of course,” he replied smoothly. “Mademoiselle Rocher. I do apologize.”
I smiled sweetly at his disapproval. Something in me continued to court it, perversely; my voice, a shade too loud, took on a ring of vulgar self-confidence to hide my fear.
“It’s so nice to meet someone in these rural parts who understands.”
I flashed him my hardest, brightest smile.
“I mean, in the city, where we used to live, no-one gave us a thought. But here…”
I managed to look contrite and unrepentant at the same time.
– Я надеялась перехватить ваших прихожан, когда они толпой повалят из церкви.
Он не отреагировал на мою маленькую колкость.
– В первое воскресенье Великого поста?
Он удивлен, но за удивлением кроется презрение. – Я бы на это не рассчитывал. Жители Ланскне – простые люди, мадам Роше. Благочестивые, – мягко, учтиво подчеркивает он.
– Я – мадемуазель Роше.
Крошечная победа, но этого достаточно, чтобы сбить с него спесь. Его взгляд метнулся к Анук – она так и сидит за прилавком с высоким бокалом шоколада, рот испачкан шоколадной пеной. И снова меня будто крапива ужалила: паника, безрассудный ужас оттого, что я могу потерять дочь. Но кто посмеет ее отнять? Нарастает гнев; я отмахиваюсь от этой мысли. Может, этот? Пусть только попробует.
– Разумеется. – Он невозмутим. – Прошу прощения, мадемуазель Роше.
Я мило улыбаюсь, догадываясь, что еще ниже пала в его глазах. Из чувства противоречия пестую его негодование; чтобы скрыть страх, говорю громче, в голосе вульгарная самоуверенность.
– Вы даже не представляете, как я рада, что встретила в этом сельском краю понимающего человека.
Я одариваю его ослепительной, чарующей улыбкой.
– Видите ли, в большом городе, где мы жили, до нас никому не было дела. Но здесь…
Вид у меня удрученный, но ничуть не виноватый.
“I mean, it’s absolutely lovely here, and the people have been so helpful… so quaint.. But it isn’t Paris, is it?”
Reynaud agreed – with the tiniest of sneers – that it wasn’t.
“It’s quite true what they say about village communities,” I went on. “Everyone wants to know your business! I expect it comes of having so little entertainment,” I explained kindly. “Three shops and a church. I mean—” I broke off with a giggle. “But of course you know all that.”
Reynaud nodded gravely.
“Perhaps you could explain to me, Mademoiselle…”
“Oh, do call me Vianne,” I interrupted.
“… why you decided to move to Lansquenet?” His tone was silken with dislike, his thin mouth more like a closed oyster than ever. “As you say, it’s a little different to Paris: His eyes made it clear that it was a difference entirely in Lansquenet’s favour. ‘A boutique like this’– an elegant hand indicated the shop and its contents with languid indifference – “surely such a specialist shop would be more successful – more appropriate – in a city? I’m sure that in Toulouse or even Agen…”
I knew now why no customers had dared to come this morning. That word – appropriate held all the glacial condemnation of a prophet’s curse.
– Такой чудесный городок, и люди такие услужливые, такие самобытные… Но ведь это не Париж, верно?
С едва уловимой ухмылкой Рейно соглашается.
– На мой взгляд, о провинциальном обществе говорят абсолютно справедливо, – продолжаю я. – Здесь каждому есть до тебя дело. Полагаю, это от недостатка развлечений, – любезно объясняю я. – Всего-то три лавки и церковь. Я хочу сказать… – Я рассмеялась. – Впрочем, что я вам рассказываю? Вы лучше меня все знаете.
Рейно серьезно кивнул.
– В таком случае объясните мне, пожалуйста, мадемуазель…
– О, зовите меня Вианн, – вставляю я.
– …почему вы решили перебраться в Ланскне? – Его елейный тон пропитан неприязнью, тонкие губы еще больше напоминают закрытую устрицу. – Как вы верно заметили, это не Париж. – Он взглядом дает мне понять, что Ланскне во всех отношениях, безусловно, достойнее столицы. – Вам не кажется, что такой стильный, – изящной рукой он с вялым безразличием обвел интерьер шоколадной, – магазин пользовался бы бóльшим успехом – смотрелся бы более подобающе – в большом городе? Уверен, в Тулузе и даже в Ажене…
Теперь я понимаю, почему никто из жителей не осмелился зайти сегодня. Слово «подобающе» обдает ледяным холодом, как проклятие пророка.
I forked at him again, savagely, under the counter. Reynaud slapped at the back of his neck, as if an insect had stung him there.
“I don’t think the cities have the franchise on enjoyment,” I snapped. “Everyone needs a little luxury, a little self indulgence from time to time.”
Reynaud did not reply. I suppose he disagreed. I said as much.
“I expect you preached exactly the opposite doctrine in your sermon this morning?” I ventured boldly. Then, as he still did not answer, “Still, I’m sure there’s room enough in this town for both of us. Free enterprise, isn’t that right?”
Looking at his expression I could see he understood the challenge. For a moment I held his gaze, making myself brazen, hateful. Reynaud flinched back from my smile as if I had spat in his face.
Softly,
“Of course.”
Oh, I know his type. We saw them enough, Mother and I, on our chase around Europe. The same polite smiles, the disdain, the indifference. A small coin dropped from the plump hand of a woman outside Rheims’ crowded cathedral; admonishing looks from a group of nuns as a young Vianne leaps to grab it, bare knees scuffing the dusty floor. A black-frocked man in angry, earnest conversation with my mother; she running white-faced from the shadow of the church; squeezing my hand until it hurt… Later I learned she had tried to confess to him. What prompted her to do it? Loneliness, perhaps; the need to talk, to confide in someone who was not a lover. Someone with an understanding face. But didn’t she see? His face, now not so understanding, contorted in angry frustration. It was sin, mortal sin… She should leave the child in the care of good people. If she loved little – what was her name? Anne? If she loved her she must – must make this sacrifice. He knew a convent where she could be cared for. He took her hand, crushing her fingers. Didn’t she love her child? Didn’t she want to be saved? Didn’t she? Didn’t she?
Я опять под прилавком выкидываю вилкой пальцы – с яростью. Рейно, будто ужаленный, шлепает себя по шее.
– По-вашему, удовольствия – это привилегия больших городов? – огрызаюсь я. – Любому необходимо иногда расслабиться, побаловать себя роскошью.