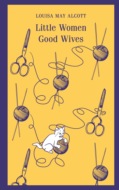Kitabı oku: «Chocolat / Шоколад», sayfa 7
9
Wednesday, February 19
This is our rest day. school is closed and, while Anouk plays by Les Marauds, I will receive deliveries and work on this week’s batch of items.
This is an art I can enjoy. There is a kind of sorcery in all cooking: in the choosing of ingredients, the process of mixing, grating, melting, infusing and flavouring, the recipes taken from ancient books, the traditional utensils – the pestle and mortar with which my mother made her incense turned to a more homely purpose, her spices and aromatics, giving up their subtleties to a baser, more sensual magic. And it is partly the transience of it that delights me; so much loving preparation, so much art and experience put into a pleasure which can last only a moment, and which only a few will ever fully appreciate.
Я плохо спала посреди калейдоскопа снов и пробудилась на рассвете – на моем лице рука Анук, в душе – отвратительное паническое желание схватить дочь в охапку и вновь пуститься в бега. Как нам жить здесь? Какая глупость – решить, будто он не настигнет нас даже в этом городе? У Черного Человека множество лиц, и все неумолимы, суровы и почему-то завистливы. «Беги, Вианн. Беги, Анук. Забудьте свою маленькую сладостную мечту и бегите».
Но нет, на этот раз мы не убежим. Мы и так убежали слишком далеко. Анук и я. Мама и я. Слишком далеко от самих себя.
За эту мечту я намерена цепляться.
9
19 февраля, среда
Сегодня у нас выходной. Школа закрыта, и пока Анук играет возле Марода, я получу заказанный товар и приготовлю партию лакомств на неделю.
Стряпаю я с удовольствием. Кулинарное искусство сродни волшебству: я словно ворожу, выбирая ингредиенты, смешивая их, измельчая, заваривая, настаивая, приправляя специями по рецептам из древних кулинарных книг. Традиционные предметы утвари – ступа и пест, которые мать использовала, готовя благовония, – теперь служат обыденности, а мамины пряности и амбра добавляют тонкости чудесам простым и чувственным. Мимолетность – вот что отчасти восхищает меня. Столько труда, любви, искусного мастерства вкладывается в удовольствие, которое длится всего-то мгновение и которое лишь немногие способны по-настоящему оценить.
My mother always viewed my interest with indulgent contempt. To her, food was no pleasure but a tiresome necessity to be worried over, a tax on the price of our freedom. I stole menus from restaurants and looked longingly into patisserie windows. I must have been ten years old – maybe older – before I first tasted real chocolate. But still the fascination endured. I carried recipes in my head like maps. All kinds of recipes; torn from abandoned magazines in busy railway stations, wheedled from people on the road, strange marriages of my own confection. Mother with her cards, her divinations directed our mad course across Europe. Cookery cards anchored us, placed landmarks on the bleak borders. Paris smells of baking bread and croissants; Marseille of bouillabaisse and grilled garlic. Berlin was Eisbrei with Sauerkraut and Kartoffelsalat, Rome was the ice-cream I ate without paying in a tiny restaurant beside the river.
Mother had no time for landmarks: All her maps were inside, all places the same. Even then we were different. Oh, she taught me what she could. How to see to the core of things, of people, to see their thoughts, their longings. The driver who stopped to give us a lift, who drove ten kilometres out of his way to take us to Lyon, the grocers who refused payment, the policemen who turned a blind eye. Not every time, of course. Sometimes it failed for no reason we could understand. Some people are unreadable, unreachable. Francis Reynaud is one of these. And even when it did not, the casual intrusion disturbed me. It was all too easy. Now making chocolate is a different matter. Oh, some skill is required. A certain lightness of touch, speed, a patience my mother would never have had. But the formula remains the same every time. It is safe. Harmless. And I do not have to look into their hearts and take what I need; these are wishes which can be granted simply, for the asking.
Моя мать всегда снисходительно презирала мое увлечение. Она не умела наслаждаться едой, воспринимала ее как утомительную необходимость, налог на нашу свободу. Я крала меню из ресторанов и с тоской смотрела на витрины кондитерских, а настоящий шоколад впервые попробовала, когда мне было лет десять, а может, и больше. Но интерес к кулинарии не угасал. Рецепты я помнила наизусть, хранила в голове, как дорожные маршруты. Всевозможные рецепты – выдранные из брошенных журналов на переполненных вокзалах, выведанные у случайных попутчиков, дикие произведения моего собственного сочинения. Ворожба и гадания вычерчивали наш безумный маршрут по Европе. А карточки с рецептами размечали вехами унылые границы, бросали якоря. Париж пах свежим хлебом и рогаликами, Марсель – буайесом и жареным чесноком, Берлин – ледяной кашей с квашеной капустой и картофельным салатом, Рим – мороженым, которое я съела, не заплатив, в ресторанчике у реки.
У матери не было времени на вехи. Все географические карты в голове, все города одинаковы. Уже тогда мы по-разному смотрели на жизнь. Нет, она научила меня всему, что умела. Как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания. Водитель согласился подвезти нас и дал крюк в десять километров, чтобы доставить в Лион; торговцы отказывались брать с нас плату; полицейский не обращал на нас внимания. Конечно, нам везло не всегда. Порой удача отворачивалась – непонятно почему. Есть люди, которых не прочтешь, до которых не достучишься. Например, Франсис Рейно. И даже когда у нас получалось, это вторжение смущало меня. Слишком уж легко. А вот шоколад – другое дело. Да, чтобы его приготовить, нужно мастерство. Легкая рука, сноровка, терпение, каким никогда не обладала мать. Но формула неизменна. Это безопасно. Безвредно. И не нужно заглядывать в чужие сердца, брать, что хочу; я просто исполняю желания, делаю то, о чем просят.
Guy, my confectioner, has known me for a long time. We worked together after Anouk was born and he helped me to start my first business, a tiny pattisserie-chocolaterie in the outskirts of Nice. Now he is based in Marseille, importing the raw chocolate liquor direct from South America and converting it to chocolate of various grades in his factory.
I only use the best. The blocks of couverture are slightly larger than house bricks, one box of each per delivery, and I use all three types: the dark, the milk and the white. It has to be tempered to bring it to its crystalline state, ensuring a hard, brittle surface and a good shine. Some confectioners buy their supplies already tempered, but I like to do it myself. There is an endless fascination in handling the raw dullish blocks of couverture, in grating them by hand – I never use electrical mixers – into the large ceramic pans, then melting, stirring, testing each painstaking step with the sugar thermometer until just the right amount of heat has been applied to make the change.
Ги, мой кондитер, знает меня с давних времен. Мы работали вместе, когда родилась Анук; Ги помог мне организовать мое первое заведение – маленькую кондитерскую на окраине Ниццы. Теперь он живет в Марселе – импортирует натуральное тертое какао из Южной Америки и на своей фабрике перерабатывает в различные сорта шоколада.
Я использую только лучшее. Брикеты шоколадной глазури чуть больше обычного кирпича, каждую неделю по ящику трех видов – черной, молочной и белой. Шоколад доводится до кристаллического состояния – поверхность хрупкая и блестит. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури беспредельно завораживает: дробишь их вручную – я никогда не пользуюсь электрическими миксерами, – ссыпаешь в большие керамические чаны, плавишь, помешиваешь, то и дело старательно измеряешь температуру специальным термометром: пока смесь не получит достаточно тепла, чтобы случилось превращение.
There is a kind of alchemy in the transformation of base chocolate into this wise fool’s gold; a layman’s magic which even my mother might have relished. As I work I clear my mind, breathing deeply. The windows are open, and the through draught would be cold if it were not for the heat of the stoves, the copper pans, the rising vapour from the melting couverture. The mingled scents of chocolate, vanilla, heated copper and cinnamon are intoxicating, powerfully suggestive; the raw and earthy tang of the Americas, the hot and resinous perfume of the rainforest. This is how I travel now, as the Aztecs did in their sacred rituals. Mexico, Venezuela, – Colombia. The court of Montezuma. Cortez and Columbus. The food of the gods, bubbling and frothing in ceremonial goblets. The bitter elixir of life.
Perhaps this is what Reynaud senses in my little shop; a throwback to times when the world was a wider, wilder place. Before Christ – before Adonis was born in Bethlehem or Osiris sacrificed at Easter – the cocoa bean was revered. Magical properties were attributed to it. Its brew was sipped on the steps of sacrificial temples; its ecstasies were fierce and terrible. Is this what he fears? Corruption by pleasure, the subtle transubstantiation of the flesh into a vessel for debauch? Not for him the orgies of the Aztec priesthood. And yet, in the vapours of the melting chocolate something begins to coalesce – a vision, my mother would have said – a smoky finger of perception which points… points…
Алхимия своего рода – преобразование шоколадного сырья в лакомое «золото дураков»; любительская алхимия, которую, наверное, даже мама бы оценила. Работая, я дышу полной грудью и ни о чем не думаю. Окна распахнуты настежь, гуляют сквозняки – было бы холодно, если б не жар печей и медных чанов, если б не горячие пары тающей шоколадной глазури. В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ванили, раскаленных котлов и корицы – терпкий, грубоватый дух Америки, острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путешествую – как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, Колумбия. Двор Монтесумы. Кортес и Колумб. Пища богов пузырится и пенится в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни.
Возможно, это и чувствует Рейно в моей лавке – дух далеких времен, когда мир был огромен и дик. Какао-бобам поклонялись еще до пришествия Христа – до того, как родился в Вифлееме Адонис и принесен был в жертву на Пасху Осирис. Какао-бобам приписывались магические свойства. Напиток из них потягивали на ступеньках жертвенных храмов; какао-бобы даровали исступленное блаженство, повергали в неистовый экстаз. Вот чего он боится? Растления через наслаждение, незаметного пресуществления плоти в сосуд разгула. Оргии ацтекского жречества не для него. И все же в пара#х тающего шоколада что-то проступает – видение, сказала бы моя мать, – дымчатый палец постижения, указующий… указующий…
There. For a second I almost had it. Across the glossy surface a vaporous ripple forms. Then another, filmy and pale, half-hiding, half-revealing. For a moment I almost saw the answer, the secret which he hides – even from himself – with such fearful calculation, the key which will set all of us into motion.
Scrying with chocolate is a difficult business. The visions are unclear, troubled by rising perfumes which cloud the mind. And I am not my mother, who retained until the day of her death a power of augury so great that the two of us ran before it in wild and growing disarray. But before the vision dissipates I am sure I see something a room, a bed, an old man lying on the bed, his eyes raw holes in his white face… And fire. Fire.
Is this what I was meant to see?
Is this the Black Man’s secret?
I need to know his secret if we are to stay, here. And I do need to stay. Whatever it takes.
Есть! На секунду я почти ухватила его. Блестящая поверхность пошла дымчатой рябью. И снова – неясно, тонко и бледно, прячется, является… На мгновение я почти увидела ответ, тайну, которую он скрывает – даже от себя – тщательно, с пугающей расчетливостью; ключ, который даст ход всем нам, запустит в движение механизм.
Гадать на шоколаде трудно. Видения расплываются, клубятся в пара#х, что туманят мозг. И я – не моя мать, до самой смерти сохранявшая столь могучий дар прорицания, что мы в одичалом смятении бежали впереди него. И все же, прежде чем видение рассеялось, мне кажется, я успела кое-что рассмотреть – комнату, кровать, на ней старика с воспаленными запавшими глазами на белом лице… И огонь. Огонь.
Вот что я должна была увидеть?
Вот какова тайна Черного Человека?
Мне нужно знать его секрет, если мы хотим здесь остаться. А я намерена остаться. Чего бы это ни стоило.
10
Wednesday, February 19
A week, Mon pere. That’s all it’s been. One week. But it seems longer. Why she should disturb me so is beyond me; it’s clear what she is. I went to see her the other day, to reason with her about her Sunday morning opening time. The place is transformed; the air perfumed with bewildering scents of ginger and spices. I tried not to look at the shelves of sweets: boxes, ribbons, bows in pastel colours, sugared almonds in gold-silver drifts, sugared violets and chocolate rose leaves. There is more than a suspicion of the boudoir about the place, an intimate look, a scent of rose and vanilla. My mother’s room had just such a look; all crepe and gauze and cut-glass twinkling in the muted light, the ranks of bottles and jars on her dressing-table an army of genies awaiting release. There is something unwholesome about such a concentration of sweetness. A promise, half-fulfilled, of the forbidden. I try not to look, not to smell.
She greeted me politely enough. I saw her more clearly now; long black hair twisted back into a knot, eyes so dark they seem pupilless. Her eyebrows are perfectly straight, giving her a stern look belied by the comic twist to her mouth. Hands square and functional; nails clipped short. She wears no make-up, and yet there is something slightly indecent about that face. Perhaps it is the directness of her look, the way her eyes linger appraisingly, that permanent crease of irony about the mouth. And she is tall, too tall for a woman, my own height. She stares at me eye to eye, with thrown-back shoulders and defiant chin. She wears a long, flared, flame-coloured skirt and a tight black sweater. This colouring looks dangerous, like a snake or a stinging insect, a warning to enemies.
10
19 февраля, среда
Неделя, mon pе´re. Всего-навсего. Прошла одна неделя. А кажется, гораздо больше. Сам не понимаю, почему она так тревожит мой покой, – мне ведь абсолютно ясно, что это за женщина. Я заходил к ней на днях, пытался убедить, что не стоит открывать магазин в воскресное утро. Бывшая пекарня преобразилась, меня смущали ароматы имбиря и специй. Я старался не смотреть на полки со сладостями – коробочки, ленточки, пастельные бантики, золотисто-серебристые горки засахаренного миндаля, сахарные фиалки, шоколадные лепестки роз. Намек на будуар более чем ясен – так интимно, так пахнет розами и ванилью. Похоже на комнату моей матери – сплошь креп и кисея, мерцание хрусталя в приглушенном свете, ряды флакончиков и склянок на туалетном столике – сонм джиннов, ожидающих избавления из плена. Есть что-то нездоровое в столь обильном средоточии изысканности. Отчасти исполненное обещание запретного блаженства. Я старался не смотреть, не нюхать.
Она вежливо поздоровалась. Теперь я увидел яснее: длинные черные волосы собраны в узел, глаза темные, будто без зрачков. Идеально прямые брови придают ее облику суровость, смягченную ироничным изгибом губ. Ладони квадратные, ногти коротко острижены – руки профессионала. Никакой косметики, и все равно в лице сквозит что-то непристойное. Возможно, открытый оценивающий взгляд, неизменно ироничные губы. К тому же она высока, слишком высока для женщины, она ростом с меня. Смотрит мне прямо в глаза – плечи расправлены, подбородок дерзко вскинут. На ней длинная расклешенная юбка, огненная, и облегающий черный свитер. Опасная расцветка – точно змея, ядовитое насекомое, предостережение врагам.
And she is my enemy. I feel it immediately. I sense her hostility and suspicion though her voice remains low pitched and pleasant throughout. I feel she has lured me here to taunt me, that she knows some secret that even I– But this is nonsense. What can she know? What can she do? It is merely my sense of order which is offended, as a conscientious gardener might take offence at a patch of seeding dandelions. The seed of discord is everywhere, mon pere. And it spreads. It spreads.
I know. I am losing my perspective. But we must be vigilant all the same, you and I. Remember Les Marauds, and the gypsies we ousted from the banks of the Tannes. Remember how long it took, how many fruitless months of complaints and letter-writing until we took the matter into our own hands. Remember the sermons I preached! Door after door was closed against them. Some shopkeepers co-operated at once. They remembered the gypsies from the last time, and the sickness, the thieving and the whoring. They were on our side. I recall we had to pressure Narcisse, who, typically, would have offered them summer employment in his fields. But at last, we uprooted them all: the sullen men and their bold-eyed slatterns, their foul-mouthed barefooted children, their scrawny dogs. They left, and volunteers cleaned up the filth they left behind them. A single dandelions seed, mon pere, would be enough to bring them back. You know that as well as I. And if she is that seed…
А она – мой враг. Я это сразу почувствовал. Ее враждебность, ее подозрительность; меня не обманывает ее тихий приятный голос. Нарочно завлекает меня в лавку, хочет посмеяться надо мной. Ей будто известно такое, что даже я… Впрочем, ерунда. Что она может знать? Что может сделать? Естественный порядок нарушен, и я негодую, как добросовестный садовник вознегодовал бы при виде одуванчиков в саду. Семена разброда всюду дают всходы, mon pе´re. И разброд ширится. Ширится.
Я понимаю. Я теряю перспективу. Но мы, ты и я, все равно должны бдить. Помнишь Марод и цыган, которых мы изгнали с берегов Танна? Помнишь, сколько времени и сил ушло на это, сколько бесплодных месяцев потрачено на жалобы и ходатайства, пока мы не взяли дело в свои руки? Помнишь мои проповеди? Одна за другой перед ними захлопывались двери. Некоторые лавочники сразу встали на нашу сторону. Не забыли последнего нашествия цыган, принесших в город болезни, воровство, проституцию. А вот на Нарсисса пришлось надавить: он, по своему обыкновению, готов был предложить бродягам работу на своих полях в летнюю страду. Но мы в конце концов выселили весь табор – угрюмых мужчин, их неряшливых потаскушек с наглыми глазами, их босоногих детей-сквернословов, их тощих собак. После ухода цыган люди бесплатно убрали после них мусор и грязь. Одно семечко одуванчика, mon pе´re, – и они вернутся. Ты это понимаешь не хуже меня. И если она – это семечко…
I spoke to Joline Drou yesterday. Anouk Rocher has joined the primary school. A pert child, black hair like her mother’s and a bright, insolent smile. Apparently Joline found her son Jean, among others, playing some kind of game with the child in the schoolyard. A corrupting influence, I gather, divination or some such nonsense, bones and beads in a bag scattered in the dirt. I told you I knew their kind. Joline has forbidden Jean to play with her again, but the lad has a stubborn streak in him and turned sullen. At that age nothing answers but the strictest discipline. I offered to give the boy a talking-to myself, but the mother won’t agree.
That’s what they’re like, mon pere… Weak. Weak. I wonder how many of them have already broken their Lenten vows. I wonder how many ever intended to keep them. For myself, I feel that fasting cleanses me. The sight of the butcher’s window appals; scents are heightened to a point of intensity that makes my head reel. Suddenly the morning odour of baking from Poitou’s is more than I can bear; the smell of hot fat from the rotisserie in the Place des Beaux-Arts a shaft from hell. I myself have touched neither meat nor fish nor eggs for over a week, subsisting on bread, soups, salads and a single glass of wine on Sunday, and I am cleansed, pere, cleansed. I only wish I could do more. This is not suffering. This is not penance. I sometimes feel that if I could only show them the right example, if it could be me on that cross bleeding, suffering…
Вчера я разговаривал с Жолин Дру. Анук Роше поступила в начальную школу. Развязная девчонка с такими же черными волосами, как у ее матери, и радужной нахальной улыбкой. Судя по всему, Жолин заметила, что ее сын Жан в числе других детей играет с этой девочкой в какую-то непотребную игру на школьном дворе. Они вытряхивали в грязь из мешочка бусины и кости. Видимо, гадали или еще какой ерундой занимались. Дурное влияние… Говорю же, я знаю эту породу. Жолин запретила Жану играть с Анук, но парень упрям, тут же надулся. Дети в этом возрасте понимают только язык строгой дисциплины. Я вызвался серьезно поговорить с мальчиком, но мать не согласилась.
Вот что это за люди, mon pе´re. Слабые. Слабые. Интересно, сколько из них уже нарушили Великий пост? Сколько вообще намеревались его соблюдать? Меня же пост очищает от скверны. Витрина лавки мясника приводит меня в ужас; обоняние так обострилось, что даже кружится голова. Я вдруг совершенно перестал выносить аромат свежей выпечки из пекарни Пуату по утрам; харчевня на площади Изящных Искусств смердит жареным жиром, будто адское пекло. Сам я вот уже больше недели не прикасаюсь ни к мясу, ни к рыбе, ни к яйцам. Живу на хлебе, супах, салатах да в воскресенье позволяю себе бокал вина. И я очистился, pе´re, очистился… Жаль только, что не могу сделать больше. Это – не му#ка. Это – не наказание. Порой я думаю: вот если бы стать для них примером, если бы это я страдал, истекая кровью на кресте…
That witch Voizin mocks me as she goes by with her basket of groceries. Alone in that family of good churchgoers she scorns the Church, grinning at me as she hobbles past, her straw hat tied around her head with a red scarf and her stick rapping the flags at her feet. I bear with her only because of her age, mon pere, and the pleas of her family. Stubbornly denying treatment, denying comfort; she thinks she’ll live for ever. But she’ll break one day. They always do. And I’ll give her absolution in all humility; I’ll grieve in spite of her many aberrations, her pride and her defiance. I’ll have her in the end, mon pere. In the end, won’t I have them all?