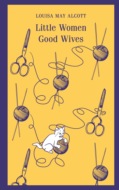Kitabı oku: «Chocolat / Шоколад», sayfa 6
Рейно молчит. Очевидно, не согласен. Так ему и говорю.
– Полагаю, утром в церкви вы проповедовали строго противоположные принципы? – храбро осведомляюсь я. Не дождавшись ответа, прибавляю: – И все-таки я убеждена, что в этом городе хватит места для нас обоих. У нас свобода предпринимательства, не так ли?
По его лицу вижу: он понял, что я бросила ему вызов. Я не отвожу глаза, набираюсь дерзости, набираюсь злости. Рейно отшатывается, будто я плюнула ему в лицо.
Произносит тихо:
– Разумеется.
О, подобный тип людей мне хорошо знаком. Мы с мамой вдоволь насмотрелись на них за годы скитаний по Европе. Те же любезные улыбки, презрение, равнодушие. Монетка, выпавшая из пухлой руки женщины у стен переполненного Реймcского собора; молодые монахини с осуждением взирают, как маленькая Вианн – голые коленки на пыльном полу – бросилась ее подбирать. Мужчина в черном в чем-то гневно, горячо убеждает мою мать; она выскочила из церкви бледная, как полотно, сжимая мою руку так, что мне больно… Позже я узнала, что она пыталась ему исповедаться. Что ее подвигло? Возможно, одиночество; потребность высказаться, довериться кому-нибудь, но не любовнику. Человеку с понимающим лицом. Она что, не видела? Его лицо, теперь уже отнюдь не понимающее, искажено злобным негодованием. Это грех, смертный грех… Пускай оставит ребенка на попечение добрых людей. Если она любит свою маленькую – как ее зовут? Анна? – если она любит Анну, она должна – обязана – пойти на эту жертву. Он знает монастырь, где о ребенке позаботятся. Он знает… он схватил ее за руку, сдавил пальцы. Она что, не любит свое дитя? Не мечтает о спасении? Неужели не любит? Неужели не желает спасения?
That night my mother wept, rocking me to and fro in her arms. We left Rheims in the morning, more like thieves than ever, she carrying me close like stolen treasure, her eyes hot and furtive.
I understood he had almost convinced her to leave me behind. After that she often asked me if I was happy with her, whether I missed having friends, a home… But however often I told her yes, no, no, however often I kissed her and said I regretted nothing, nothing, a little of the poison remained. For years we ran from the priest, the Black Man, and when his face returned time and again in the cards it would be time to run once more, time to hide from the darkness he had opened in her heart.
And here he is again, just as I thought we had found our place at last, Anouk and I. Standing at the door like the angel at the gate.
В ту ночь мать плакала, укачивая меня на руках. А утром мы покинули Реймс, тайком, озираясь, – хуже, чем воры. Мать крепко прижимала меня к себе, будто украденное сокровище, а у самой глаза воспаленные, взгляд как у загнанного зверя.
Я поняла, что он почти уговорил ее отказаться от меня. После она часто спрашивала, счастлива ли я с ней, не страдаю ли без друзей, без своего дома… «Да, нет, нет», – раз за разом отвечала я, целуя и убеждая ее, что не жалею ни о чем, ни о чем, однако ядовитое семя пустило корни. Многие годы бежали мы от священника, от Черного Человека, и когда лицо его временами всплывало в картах, мы вновь пускались в бега, пытаясь укрыться от черной бездны, которую он разверз в ее сердце.
И вот он опять, когда я уже думала, что мы, я и Анук, наконец-то нашли свое место под солнцем. Стоит в дверях, словно ангел у ворот.
Well, this time, I swear I will not run. Whatever he does. However he turns the people of this place against me. His face is as smooth and certain as the turn of an evil card. And he has declared himself my enemy – and I his as clearly as if we had both spoken aloud.
“I’m so glad we understand each other.” My voice is bright and cold.
“And I.”
Something in his eyes, some light where there was none before, alerts me. Amazingly, he is enjoying this, this closing of two enemies for battle; nowhere in his armoured certainty is there room for the thought that he might not win.
He turns to go, very correct, with just the right inclination of the head. Just so. Polite contempt. The barbed and poisonous weapon of the righteous.
“M’sieur le Cure!” For a second he turns back, and I press a small beribboned packet into his hands. “For you. On the house.”
My smile brooks no refusal, and he takes the packet with bemused embarrassment.
“My pleasure.”
He frowns slightly, as if the thought of my pleasure pains him.
“But I don’t really like —”
“Nonsense.” The tone is brisk, unaswerable. “I’m sure you’ll like these. They just remind me so much of you.”
Behind his calm exterior I think he looks startled. Then he is gone, the little packet white in his hand, into the grey rain. I notice that he does not run for shelter but walks with the same measured tread, not indifferent but with the look of one who relishes even that small discomfort.
Что ж, на этот раз, клянусь, я не побегу. Что бы он ни делал. Как бы ни настраивал против меня людей. Лицо его словно рубашка карты, предвещающей зло, – бесстрастное, категоричное. Ясно, что мы объявили друг другу войну, хоть вслух это и не высказано.
– Я так рада, что мы нашли общий язык, – говорю я звонко и холодно.
– Я тоже.
В его глазах мерцает огонек, которого я раньше не замечала. Я настораживаюсь. Вот оно что. Он доволен, радуется, что мы столкнулись лбами. Уверен, что застрахован от поражения, ни на секунду не допускает, что может проиграть.
Он поворачивается к двери. Спину держит прямо, едва заметно кивает на прощание. Ни единого лишнего жеста. Вежливое презрение. Колючее ядовитое оружие праведника.
– M’sieur le cure#! – Он оборачивается, и я вкладываю ему в ладони пакетик с лентами. – Это вам. За счет заведения.
Улыбкой даю понять, что не потерплю отказа. Он смущенно принимает подарок.
– Я очень рада.
Он чуть хмурится, словно досадуя на то, что меня порадовал.
– Право, я не любитель…
– Чепуха, – живо, безапелляционно перебиваю я. – Эти вам понравятся, я просто уверена. Они напоминают мне вас.
Внешне он спокоен, но в душе, я думаю, вздрогнул. Потом с белым пакетиком в руке вышел под унылые струи дождя. Я смотрела ему вслед. Он не побежал в укрытие. Зашагал под дождем, все так же размеренно, не бесстрастно, а всем видом показывая, что смакует даже это крошечное неудобство.
I like to think he will eat the chocolates. More probably he will give them away, but I like to think he will at least open them and look… Surely he can spare one glance for the sake of curiosity.
They remind me so much of you.
A dozen of my best huitres de Saint-Malo, those small flat pralines shaped to look like tightly closed oysters.
8
Tuesday, February 18
Fifteen customers yesterday. today, thirty-four. Guillaume was among them; he bought a cornet of florentines and a cup of chocolate. Charly was with him, curling obediently beneath a stool while, from time to time, Guillaume dropped a piece of brown sugar into his expectant, insatiable jaws.
It takes time, Guillaume tells me, for a newcomer to be accepted in Lansquenet. Last Sunday, he says, Cure Reynaud preached such a virulent sermon on the topic of abstinence that the opening of La Celeste Praline that very morning had seemed a direct affront against the Church. Caroline Clairmont – who is beginning another of her diets was especially cutting, saying loudly to her friends in the congregation that it was “Quite shocking, just like stories of Roman decadence, my dears, and if that woman thinks she can just shimmy into town like the Queen of Sheba disgusting the way she flaunts that illegitimate child of hers as if – oh, the chocolates? Nothing special, my dears, and far too pricey.” The general conclusion amongst the ladies was that ‘it’– whatever it was – wouldn’t last. I would be out of town within a fortnight. And yet, the number of my customers has doubled since yesterday, amongst them a number of Madame Clairmont’s cronies, bright-eyed if a little shameful, telling each other it was curiosity, that was all, that all they wanted was to see for themselves.
Мне хочется думать, что он съест конфеты. Хотя, скорее всего, кому-нибудь отдаст. И все же, надеюсь, он заглянет в пакетик… Одним глазком, из любопытства.
«Они напоминают мне вас».
Дюжина лучших моих huоtres de Saint-Malo – крошечные плоские пралине в форме захлопнутых устриц.
8
18 февраля, вторник
Вчера – пятнадцать покупателей. Сегодня – тридцать четыре. В том числе Гийом. Он купил кулек вафель в шоколаде и чашку жидкого шоколада. Чарли, как всегда, с ним – лежит покорно под табуретом, свернувшись клубочком. Гийом время от времени наклоняется и вкладывает в его ненасытную, жаждущую угощения пасть кусочек коричневого сахара.
Нужно время, говорит мне Гийом, чтобы Ланскне принял чужака. В минувшее воскресенье, рассказывает он, кюре Рейно произнес суровейшую проповедь о воздержании, и потому многие, увидев в то утро, что «Небесный миндаль» открылся как ни в чем не бывало, сочли это оскорблением церкви. Особенно громко негодовала Каролина Клермон, в очередной раз севшая на диету. «Это возмутительно, мои дорогие, – во всеуслышание верещала она, обращаясь к своим приятельницам из церковной общины, – прямо римские оргии времен заката империи, а эта женщина бог весть что о себе возомнила, прискакала в город, как царица Савская, бесстыдно щеголяет своим незаконнорожденным ребенком, будто… А шоколад? Ничего особенного, мои дорогие, и вовсе не стоит тех денег…» В результате дамы заключили, что «это» – чем бы оно ни было – долго не продлится и через две недели меня уже не будет в городе. Но число покупателей по сравнению с минувшим днем удвоилось. Среди них – несколько закадычных подружек мадам Клермон. Немного сконфуженные, с жадным блеском в глазах, они твердят друг другу, что им просто любопытно, только и всего, просто захотелось увидеть своими глазами.
I know all their favourites. It’s a knack, a professional secret like a fortune-teller reading palms: My mother would have laughed at this waste of my skills, but I have no desire to probe further into their lives than this. I do not want their secrets or their innermost thoughts. Nor do I want their fears or gratitude. A tame alchemist, she would have called me with kindly contempt, working domestic magic when I could have wielded marvels. But I like these people. I like their small and introverted concerns. I can read their eyes, their mouths, so easily: this one with its hint of bitterness will relish my zesty orange twists; this sweet-smiling one the soft-centred apricot hearts; this girl with the windblown hair will love the mendiants; this brisk, cheery woman the chocolate brazils. For Guillaume, the florentines, eaten neatly over a saucer in his tidy bachelor’s house. Narcisse’s appetite for double-chocolate truffles reveals the gentle heart beneath the gruff exterior. Caroline Clairmont will dream of cinder toffee tonight and wake hungry and irritable. And the children… Chocolate curls, white buttons with coloured vermicelli, pains d’epices with gilded edging, marzipan fruits in their nests of ruffled paper, peanut brittle, clusters, cracknels, assorted misshapes in half-kilo boxes… I sell dreams, small comforts, sweet harmless temptations to bring down a multitude of saints crash-crash-crashing amongst the hazels and nougatines.
Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость, профессиональная тайна. Мать посмеялась бы надо мной, сказала бы, что я впустую растрачиваю талант, но я не желаю выяснять их подноготную. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. Ручной алхимик, сказала бы мать со снисходительным презрением. Показывает никчемные фокусы, а ведь могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Я с легкостью читаю по их глазам и губам: этой, с затаенной горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки; вон той, с милой улыбкой, – абрикосовые сердечки с мягкой начинкой; лохматая девушка по достоинству оценит mendiants; а эта бодрая веселая женщина – бразильский орех в шоколаде. Для Гийома – вафли в шоколаде; он их аккуратно съест над блюдцем в своем опрятном холостяцком доме. Нарсисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а значит, за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клермон сегодня вечером будет грезить о жженых ирисках и утром проснется голодной и раздраженной. А дети… Шоколадные шишечки, крендельки, пряники с золоченой окантовкой, марципаны в гнездышках из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на полкило… Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сонм святых в ворох орешков и нуги…
Is that so bad? Cure Reynaud thinks so, apparently.
“Here, Charly. Here boy.”
Guillaume’s voice is warm when he speaks to his dog, but always a little sad. He bought the animal when his father died, he tells me. That was eighteen years ago. But a dog’s life is shorter than a man’s, and they grew old together.
“It’s here.” He brings my attention to a growth under Charly’s chin. It is about the size of a hen’s egg, gnarled like an elm burr. “It’s growing.” A pause during which the dog stretches luxuriously, one leg pedalling as, his master scratches his belly. “The vet says there’s nothing to be done.”
Это что, так плохо? Кюре Рейно, во всяком случае, не одобряет.
– Держи, Чарли. Ешь, старина.
Голос Гийома неизменно теплеет, когда он обращается к своему питомцу, и всегда пронизан печалью. Пса он купил сразу же после смерти отца, рассказал Гийом. Восемнадцать лет назад. Однако собачий век короче людского, и они состарились одновременно.
– Это здесь. – Он показывает мне опухоль под челюстью Чарли. Размером с куриное яйцо, торчит, как нарост на дереве. – Все время растет. – Он умолкает, почесывая пса по животу. Тот с наслаждением потягивается, дрыгая лапой. – Ветеринар говорит, ничего сделать нельзя.
I begin to understand the look of guilt and love I see in Guillaume’s eyes.
“You wouldn’t put an old man to sleep,” he tells me earnestly. “Not if he still had”– he struggles for words “some quality of life. Charly doesn’t suffer. Not really.”
I nod, aware he is trying to convince himself.
“The drugs keep it under control.”
For the moment. The words ring out unspoken.
“When the time comes, I’ll know.” His eyes are soft and horrified. “I’ll know what to do. I won’t be afraid.”
I top up his chocolate-glass without a word and sprinkle the froth with cocoa powder, but Guillaume is too busy with his dog to see. Charly rolls onto his back, head lolling.
“M’sieur le Cure says animals don’t have souls,” says Guillaume softly. “He says I should put Charly out of his misery.”
“Everything has a soul,” I answer. “That’s what my mother used to tell me. Everything.”
He nods, alone in his circle of fear and guilt.
“What would I do without him?” he asks, face still turned towards the dog, and I understand he has forgotten my presence. “What would I do without you?”
Behind the counter I clench my fist in silent rage. I know that look – fear, guilt, covetousness – I know it well. It is the look on my mother’s face the night of the Black Man. His words – What would I do without you? – are the words she whispered to me all through that miserable night. As I glance into my mirror last thing in the evening, as I awake with the growing fear – knowledge, certainty – that my own daughter is slipping away from me, that I am losing her, that I will lose her if I do not find The Place… it is the look on my own.
Теперь мне ясно, откуда в его глазах любовь и вина.
– Ведь старого человека не усыпляют? – с жаром говорит он. – Нет, пока в нем… – он подыскивает слова, – не угасло стремление к жизни. Чарли не страдает. Вовсе нет.
Я киваю, понимая, что он сам себя уговаривает.
– Лекарства убивают боль.
«Пока», – беззвучным эхом звенит непроизнесенное слово.
– Я пойму, когда настанет час. – В его добрых глазах ужас. – И буду знать, как поступить. Я не испугаюсь.
Я молча наливаю ему бокал шоколада и посыпаю пену шоколадной пудрой, но Гийом, занятый своим питомцем, не видит. Чарли переворачивается на спину, вертит головой.
– M’sieur le cure# говорит, у животных нет души, – тихо молвит Гийом. – Говорит, я должен избавить Чарли от мучений.
– У всего есть душа, – возражаю я. – Так говорила моя мать. У всего, что существует.
Гийом кивает, замкнувшись в кругу страха и вины.
– Как я буду без него жить? – спрашивает он. Его взгляд по-прежнему обращен к собаке, и я понимаю, что он забыл про меня. – Что я буду без тебя делать?
Я за прилавком сжимаю кулак в немой ярости. Мне знакомо это выражение – страх, угрызения совести, неутолимая жажда, – хорошо знакомо. Такое же лицо было у матери в ночь после встречи с Черным Человеком. И слова, произнесенные Гийомом «Что я буду делать без тебя?» – я тоже слышала. Их шептала мне мать всю ту ужасную ночь. Я гляжу в зеркало перед сном, проснувшись утром в нарастающем страхе – уверенности, – сознании, что моя дочь ускользает от меня, что я теряю ее, потеряю наверняка, если не найду заветного Прибежища… и вижу, что у меня такое же лицо.
I put my arms around Guillaume. For a second he tenses, unused to female contact. Then he relaxes. I can feel the strength of his distress coming from him in waves.
“Vianne,” he says softly. “Vianne.”
“It’s all right to feel this way,” I tell him firmly. “It’s allowed.”
Beneath us, Charly barks his indignation.
We made close to three hundred francs today. For the first time, enough to break even. I told Anouk when she came home from school, but she looked distracted, her bright face unusually still. Her eyes were heavy, dark as the cloudline of an oncoming storm.
I asked her what was wrong.
“It’s Jeannot.” Her voice was toneless. “His mother says he can’t play with me any more.”
I remembered Jeannot as Wolf Suit in the Mardi Gras carnival, a lanky seven-year-old with shaggy hair and a suspicious expression. He and Anouk played together in the square last night, running and shouting arcane war cries, until the light failed. His mother is Joline Drou, one of the two primary teachers, a crony of Caroline Clairmont.
Я обнимаю Гийома. Непривычный к женскому прикосновению, он на секунду напряженно застывает, потом расслабляется. Я чувствую, как волнами выплескивается из него жгучая боль неминуемой утраты.
– Вианн, – тихо произносит он. – Вианн.
– Это естественно – так чувствовать, – твердо говорю я. – Это не запрещено.
Чарли из-под табурета лаем выражает свое возмущение.
Сегодня мы выручили почти триста франков. Впервые без убытков. Я сообщила об этом Анук, когда та вернулась из школы. Однако дочь глядела рассеянно, оживленное личико необычайно серьезно. Глаза – темные, мрачные, как небо перед грозой.
Я спросила, почему она расстроена.
– Из-за Жанно. – Голос у нее бесцветный. – Его мама запретила ему играть со мной.
Я вспомнила Жанно в костюме Волка на карнавальном шествии. Тощий семилетний мальчик с косматой головой и подозрительным взглядом. Вчера вечером он играл с Анук на площади. Они с воинственными криками гонялись друг за другом, пока не стемнело. Его мать, Жолин Дру, одна из двух учительниц начальной школы, дружит с Каролиной Клермон.
“Oh?” Neutrally. “What does she say?”
“She says I’m a bad influence.” She flicked a dark glance at me. “Because we don’t go to church. Because you opened on Sunday.”
You opened on Sunday.
I looked at her. I wanted to take her in my arms, but her rigid, hostile stance alarmed me. I made my voice very calm.
“And what does Jeannot think?” I asked gently.
“He can’t do anything. She’s always there. Watching.” Anouk’s voice rose shrilly and I guessed she was close to tears. “Why does this always have to happen?” she demanded. “Why don’t I ever—”
She broke off with an effort, her thin chest hitching.
“You have other friends.”
It was true; there had been four or five of them last night, the square ringing with their catcalls and laughter.
“Jeannot’s friends.”
I saw what she meant. Louis Clairmont. Lise Poitou. Hisfriends. Without Jeannot the group would soon disperse. I felt a sudden pang for my daughter, surrounding herself with invisible friends to people the spaces around her. Selfish, to imagine that a mother could fill that space completely. Selfish and blind.
– Вот как? – сдержанно. – И что же она говорит?
– Что я дурно влияю. – Она глянула на меня исподлобья. – Потому что мы не ходим в церковь. Потому что ты открыла магазин в воскресенье.
Ты открыла.
Я смотрю на дочь. Мне хочется ее обнять, но меня настораживает этот неприступный, враждебный вид.
– А сам Жанно что думает? – мягко спрашиваю я.
– А что ему делать? Она всегда рядом. Наблюдает. – Голос громче, пронзительнее; похоже, она вот-вот расплачется. – Почему с нами каждый раз так? – вопрошает она. – Почему я никогда…
Она заставляет себя умолкнуть; ее худенькая грудь сотрясается.
– У тебя есть другие друзья.
Это правда: вчера вечером я видела с ней человек пять детворы; площадь звенела от их визга и смеха.
– Это друзья Жанно.
Логично. Луи Клермон. Лиз Пуату. Они – его друзья. Без Жанно компания скоро распадется. Мне вдруг невыносимо больно за дочь: выдумывает невидимых друзей, населяет пространство вокруг себя. Какой эгоизм – вообразить, будто одна мать способна это пространство заполнить. Эгоизм и слепота.
“We could go to church, if that’s what you want.” My voice was gentle. “But you know it wouldn’t change anything.”
Accusingly, “Why not? They don’t believe. They don’t care about God. They just go.”
I smiled then, not without some bitterness. Six years old, and she still manages to surprise me with the depth of her occasional perception.
“That may be true,” I said. “But do you want to be like that?”
A shrug, cynical and indifferent. She shifted her weight from one foot to the other, as if in fear of a lecture. I searched for the words to explain. But all I could think of was the image of my mother’s stricken face as she rocked me and murmured, almost fiercely, What would I do without you? What would I do?
Oh, I taught her all of this long ago; the hypocrisy of the Church, the witch-hunts, the persecution of travellers and people of other faiths. She understands. But the knowledge does not transpose well to everyday life, to the reality of loneliness, to the loss of a friend.
“It’s not fair.”
Her voice was still rebellious, the hostility subdued but not entirely.
Neither was the sack of the Holy Land, nor the burning of Joan of Arc, nor the Spanish Inquisition. But I knew better than to say so. Her features were pinched; intense; any sign of weakness and she would have turned on me.
– Мы можем посещать церковь, если ты хочешь, – ласково говорю я. – Но ты же сама понимаешь: это ничего не изменит.
– Почему? – с упреком. – Они ведь не верят. Им плевать на Бога. Они просто ходят в церковь.
Я улыбнулась, не без горечи. Ей всего шесть, но порой она поражает меня своей проницательностью.
– Может, и так, – отвечаю я, – но ты что, хочешь быть как они?
Она пожимает плечами – цинично и равнодушно. Переминается с ноги на ногу, словно боится, что я начну читать нотацию. Я ищу подходящие слова, чтобы объяснить ей, а в мыслях – только мать с обезумевшим лицом: укачивает меня, нашептывая почти с яростью: «Что я буду делать без тебя? Что буду делать?»
Вообще-то я все уже давно объяснила – лицемерие церкви, охота на ведьм, преследование бродяг и людей иной веры. Она понимает. Только усвоенные понятия плохо переносятся в повседневность, не примиряют с одиночеством, с утратой друга.
– Это несправедливо.
Тон по-прежнему бунтарский; враждебность пригасла, но не потухла совсем.
Равно как и разграбление Святой земли, сожжение Жанны д’Арк, испанская инквизиция. Но я не напоминаю об этом. Страдальческое лицо напряжено. Стоит мне дать слабину, и она отвернется от меня.
“You’ll find other friends.”
A weak and comfortless answer. Anouk looked at me with disdain.
“But I wanted this one.”
Her tone was strangely adult, strangely weary as she turned away. Tears swelled her eyelids, but she made no move to come to me for comfort. With a sudden overwhelming clarity I saw her then, the child, the adolescent, the adult, the stranger she would one day become, and I almost cried out in loss and terror, as if our positions had somehow been reversed, she the adult, I the child.
Please! What would I do without you?
But I let her go without a word, aching to hold her but too aware of the wall of privacy slamming down between us. Children are born wild, I know. The best I can hope for is a little tenderness, a seeming docility. Beneath the surface the wildness remains, stark, savage and alien.
She remained virtually silent for the rest of the evening. When I put her to bed she refused her story but stayed awake for hours after I had put out my own light. I heard her from the darkness of my room, walking to and fro, occasionally talking to herself – or to Pantoufle – in fierce staccato bursts too low for me to hear. Much later, when I was sure she was asleep, I crept into her room to switch off the light and found her, curled at the end of her bed, one arm flung wide, head turned at an awkward but absurdly touching angle that tore at my heart. In one hand she clutched a small Plasticine figure. I removed it as I straightened the bedclothes, meaning to return it to Anouk’s toybox. It was still warm from her hand, releasing an unmistakable scent of primary school, of secrets whispered, of poster paint and newsprint and half-forgotten friends.
– Найдешь других друзей.
Неубедительный, неутешительный ответ. Анук глядит с презрением.
– А мне нужен был этот.
Пугающе взрослый, пугающе усталый голос. Она отводит взгляд. Веки набухли слезами, но она не кидается ко мне за утешением. Неожиданно я с ужасающей ясностью вижу ее, ребенка, подростка, взрослую, совершенно незнакомую мне, какой она однажды станет, и едва не кричу в страхе и растерянности. Будто мы с ней поменялись местами: она – взрослая, я – ребенок…
«Пожалуйста, не уходи! Что я буду делать без тебя?»
Но я отпускаю ее без единого слова, как ни велико во мне желание обнять ее: слишком остро ощущаю стену отчуждения. Я знаю, люди рождаются дикарями. Я могу надеяться разве что на капельку ласки, на видимость послушания. В глубине пребывает дикость – необузданная, неприрученная, непредсказуемая.
Весь вечер она хранила молчание. Когда я укладывала ее спать, она отказалась от сказки, но заснула лишь спустя несколько часов после того, как я погасила свет у себя. Лежа в темноте, я слышала, как она меряет шагами комнату, время от времени разражаясь яростными отрывистыми тирадами, обращенными то ли к самой себе, то ли к Пантуфлю, слишком тихими – слов не разобрать. Позже, уверившись, что она спит, я на цыпочках пробралась в ее комнату, чтобы выключить свет. Свернувшись клубочком, она лежала на краю кровати, выкинув в сторону руку и так трогательно и неловко вывернув голову, что у меня от жалости защемило сердце. В ладони она сжимала пластилиновую фигурку. Расправляя простыни, я эту фигурку забрала, намереваясь положить в коробку для игрушек. Пластилин еще хранил тепло детской ручки и пах начальной школой, нашептанными секретами, типографской краской и полузабытыми друзьями.
Six inches long, a stick figure painstakingly rendered, eyes and mouth scratched on with a pin, red thread wound about the waist and something – twigs or dried grass – stuck into the scalp to suggest shaggy brown hair.
There was a letter scratched into the Plasticine-boy’s body, just above the heart; a neat capital J. Beneath it and just close enough to overlap, a letter A.
I replaced the figure softly on the pillow beside her head and left, putting out the light. Some time before dawn she crept into bed with me as she often had when she was a child, and through soft layers of sleep I heard her whisper,
“It’s all right, Maman. I’ll never leave you.” She smelt of salt and baby soap, her hug fierce and warm in the enclosing dark. I rocked her, rocked myself, in sweetness, hugged us both in relief so intense that it was almost pain. “I love you, Maman. I’ll always love you for ever. Don’t cry.”
I wasn’t crying. I never cry.
Липкая шестидюймовая фигурка, старательно вылепленная детскими пальчиками. Глаза и рот процарапаны булавкой, вокруг пояса – красная нитка и что-то – веточки либо сухая трава – воткнуто в голову, обозначая косматые каштановые волосы…
На туловище пластилинового мальчика выцарапаны буквы: прямо над сердцем – аккуратная заглавная «Ж», чуть ниже, почти залезшая на нее, – «А».
Я осторожно положила фигурку на подушку рядом с головой Анук и вышла, потушив свет. Незадолго до рассвета Анук забралась ко мне в постель, как она это часто делала, когда была еще совсем малышкой, и я из мягких глубин дремоты услышала ее шепот:
– Не сердись, maman. Я тебя никогда не брошу. – От нее пахло солью и детским мылом. В темноте она крепко сжимала меня в теплых объятиях. Счастливая, я укачивала ее, укачивала себя, обнимала нас обеих, и облегчение мое было пронзительным, как боль. – Я люблю тебя, maman. И всегда буду любить тебя навечно. Не плачь.
Я не плакала. Я никогда не плачу.
I slept poorly inside a kaleidoscope of dreams; awoke at dawn with Anouk’s arm across my face and a dreadful, panicky urge to run, to take Anouk and keep on running. How can we live here, how could we have been foolish enough to think he wouldn’t find us even here? The Black Man has many faces, all of them unforgiving, hard and strangely envious. Run, Vianne. Run, Anouk. Forget your small sweet dream and run.
But not this time. We have run too far already, Anouk and I, Mother and I, too far from ourselves.
This is one dream I mean to cling to.