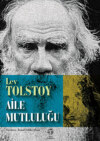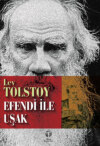Kitabı oku: «Полное собрание сочинений. Том 20. Варианты к «Анне Карениной»», sayfa 47
* № 199 (рук. № 101).
Онъ вспомнилъ, что было для него первымъ толчкомъ, заставившимъ его провѣрить свои убѣжденія: это была ясная очевидная мысль о смерти при видѣ любимаго умирающаго брата. Когда ему ясно пришла мысль о томъ, что впереди ничего не было, кромѣ страданія, смерти и вѣчнаго забвенія, онъ удивился тому, какъ онъ могъ 14 лѣтъ жить на свѣтѣ съ такими мыслями, какъ онъ давно не застрѣлился. A вмѣстѣ съ тѣмъ онъ жилъ и женился и продолжалъ жить и мыслить и чувствовать. Чтожъ это значило? Теперь ему ясно было, что онъ могъ жить только благодаря тѣмъ вѣрованіямъ, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Еслибы онъ не имѣлъ этихъ вѣрованій, онъ бы давно перерѣзалъ всѣхъ тѣхъ, которые ему были чѣмъ нибудь непріятны, и его бы давно зарѣзали. А этаго ничего не было. И ему жизнь представилась въ видѣ круглаго сосуда, какой онъ видалъ въ лабораторіяхъ, съ двумя противулежащими узкими отверстіями. Одно было входъ въ жизнь, другое – выходъ. Ни того, ни другаго нельзя было сдѣлать, не идя по прямому пути. Но въ серединѣ излишекъ простора позволяетъ избирать всякія направленія, и тѣмъ, которые отклоняются отъ прямаго пути, кажется, когда они въ серединѣ, что направленіе входа было ложное и что онъ найдетъ лучшій, но неизбѣжная смерть приведетъ опять къ первому прямому пути1842 – сознанія того, что мы во власти Его и ничего не знаемъ болѣе того, что онъ хотѣлъ открыть намъ. «И тѣмъ легче найти этотъ прямой путь, – думалъ онъ, продолжая сравненіе, – чѣмъ энергичнѣе будешь биться о края,1843 думая найти новые выходы».1844
* № 200 (кор. №124).
– Ты знаешь, Костя, съ кѣмъ Сергѣй Ивановичъ ѣхалъ сюда? – сказала Долли, обращаясь къ Левину, – съ Вронскимъ. Онъ ѣдетъ въ Сербію.
– А! – сказалъ Левинъ. – Все ѣдутъ добровольцы.
– Да еще какъ! Вы бы видѣли оваціи. Нынче вся Москва сошла съ ума отъ вчерашнихъ телеграммъ. Теперь же 3-я тысяча добровольцевъ. Что, васъ не подмывало? Я увѣренъ – не будь вы женаты, поѣхали бы.
– Вотъ ужъ ни въ какомъ случаѣ, – улыбаясь сказалъ Левинъ.
– Т. е. въ военную службу, такъ какъ ты не служилъ, понимаю, но въ общество Краснаго Креста я бы пошелъ.
– Ни туда, ни сюда.
– Отчегожъ?
– Да я ничего не понимаю во всемъ этомъ дѣлѣ съ самаго начала.
– Т. е. чегожъ ты не понимаешь?
– Да я не понимаю, что такое значитъ братья Славяне. Я ихъ не знаю и никто не зналъ до прошлаго года. Вдругъ мы возгорѣлись любовью, – говорилъ Левинъ, начавши говорить спокойно и начиная увлекаться своими словами и горячиться.
– Такъ ты не знаешь исторіи и всей нашей кровной связи съ Славянами. Если ты не знаешь, то ты, какъ русскій, долженъ чувствовать то, что чувствуетъ теперь всякій мужикъ изъ тѣхъ, которые бросаютъ семью и приходятъ проситься въ добровольцы. Нашихъ бьютъ. За Христа бьютъ Агаряне. A тѣ, которые несутъ послѣдніе гроши, – это народное чувство.
– Да я живу въ деревнѣ, этаго нѣтъ ничего.
– Ну, это ты слишкомъ. Какъ нѣтъ, – сказала Долли. – А воскресенье въ церкви.
– Да они чтобъ душу спасти. Имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло.
– Да вѣдь они знаютъ на что, – утвердительно говорилъ Сергѣй Ивановичъ, хотѣвшій въ деревнѣ увидѣть, какъ смотритъ на дѣ[ло] народъ. Это голосъ всей Россіи.
– Прессы, а не Россіи. Мы здѣсь, въ деревнѣ, совершенно въ томъ положеніи, какъ если бы люди сидѣли смирно въ комнатѣ, а ихъ бы всѣ увѣряли, что они бѣснуются; такъ насъ, народъ, увѣряютъ, что мы сочувствуемъ, а мы ничего не знаемъ.
– Это вѣчная страсть противурѣчить. Мы видимъ это сочувствіе, – сказалъ Сергѣй Ивановичъ, – когда толпы идутъ, бросая все.
– Но его нѣтъ. Еслибъ оно было, то я его не понимаю.
– Нѣтъ, Костя, ты Богъ знаетъ что говоришь, – сказала Долли, по мужу сочувствовавшая.
– О, спорщикъ. Право, изъ желанія спорить, – сказалъ Котовасовъ. – Но я это то и люблю. Ну съ, ну съ, какая ваша теорія?
– Да моя теорія та, что война есть жестокое, ужасное дѣло и по чувству и по наукѣ. Объявляетъ войну Государство, власть, теперь вдругъ войну объявляютъ сотни людей. Берутъ на себя отвѣтственность. Я этаго не понимаю. Дамы христіане даютъ деньги на порохъ, на убійство.
– Да позвольте, – сказалъ Котовасовъ, – убиваютъ братьевъ, единокровныхъ, ну не братьевъ – единовѣрцевъ, дѣтей, стариковъ. Чувство возмущается, требуетъ мщенія. Я понимаю Графа К., который говоритъ, что онъ плѣнныхъ Турокъ не признаетъ.
– Этаго я не понимаю, такъ мы отдаемся чувству такому же животному.
– Да потомъ, сдѣлай милость, скажи, развѣ ты не понимаешь исторической судьбы Русскаго народа, развѣ ты не видишь, что это только дальнѣйшее шествіе его по пути къ своимъ судьбамъ? И развѣ ты не видишь въ этомъ внезапномъ подъемѣ чувства народнаго признакъ?
– Вопервыхъ, я не вижу. И потомъ, что за поспѣшность, почему эти судьбы должны совершаться въ нынѣшнемъ году непремѣнно? Они совершатся. Богъ найдетъ эти пути и приведетъ народъ.
– Да вотъ онъ и ведетъ.
– Нѣтъ, не онъ, а гордость, поспѣшность. Объявленіе войны.
– Да этакъ вы велите сидѣть сложа руки и ждать судьбы, – сказалъ Котовасовъ. – Это Турки дѣлаютъ и досидѣлись.
– Нѣтъ, зачѣмъ ждать сложа руки. А личная дѣятельность? У каждаго есть свое опредѣленное дѣло.
– Какое же?
– А то, чтобы жить по правдѣ, для Бога, спасать душу, – сказалъ Левинъ.1845
– Да если кто идетъ теперь пострадать за правое дѣло – не спасаетъ душу? – сказалъ Сергѣй Ивановичъ.
– Онъ идетъ не страдать, а убивать.
– «Я не миръ, а мечъ принесъ», говоритъ Христосъ.
Они уже давно дошли до пчельника и, боясь пчелъ, зашли за тѣнь избы и сидѣли на вынесенныхъ старикомъ обрубкахъ. Спокойствіе Левина уже совсѣмъ изчезло. Высказавъ въ спорѣ свою задушевную, новую мысль, онъ теперь, прислушавшись къ тому, что дѣлалось у него въ душѣ, уже далеко не нашелъ въ ней прежняго спокойствія. Несмотря на то, что вызванный вопросомъ Дарьи Александровны о томъ, далъ ли онъ въ церкви денегъ на Сербскую войну, старикъ пчельникъ подтвердилъ мысль Левина, сказавъ: «какъ же не дать, на Божье дѣло», Левинъ чувствовалъ, что въ душѣ его теперь опять все смѣшалось. Не прошло полчаса, какъ, продолжая разговоръ, онъ уже сцѣпился съ Котовасовымъ спорить о философскихъ предметахъ и доказывалъ уже ему (лишая ея этимъ для себя всякой убѣдительности) самую дорогую свою мысль о томъ, что, думая матеріалистически, надо думать только до конца, и тогда придешь къ гораздо худшей безсмыслицѣ, чѣмъ религіозныя вѣрованія.1846 Матерія, сила – все ничто, и нѣтъ конечнаго смысла. Мысль эта, казавшаяся ему столь побѣдительною, даже ни на минуту не остановила вниманія Котовасова.
– Да зачѣмъ же мнѣ думать? – сказалъ онъ совершенно искренно, спокойно (это видѣлъ Левинъ).
– Мнѣ нужны формы, въ которыхъ я могу мыслить, и такія формы – матерія, силы, организмъ, а что это само по себѣ – мнѣ и дѣла [нѣтъ].
– Какъ, вамъ и дѣла нѣтъ, что будетъ съ вашей душой?
– Вотъ уже никакого, – смѣясь сказалъ Котовасовъ, и это было такъ искренно, что послѣ этаго и говорить нечего было.
Левинъ почувствовалъ изчезнувшимъ все строившееся и былъ почти въ отчаяніи. Котовасовъ былъ очень веселъ.
– Будетъ, будетъ дождикъ, Дарья Александровна.
Дѣйствительно, стало хмуриться, и всѣ пошли скорѣй домой. У самаго дома уже было совсѣмъ темно отъ страшной черной и потомъ бѣлой тучи. Кити не было дома.1847 На душѣ у Левина было также мрачно теперь, какъ и на небѣ. Онъ, оставивъ гостей, побѣжалъ на гумно. Ему сказали, что она прошла по другой дорогѣ. Онъ побѣжалъ, и вдругъ его ослѣпило, и треснулъ сводъ небесъ, и ударило въ дубъ, и пошелъ сплошной дождь, въ туже секунду измочившій его до тѣла. Исполненный ужаса, онъ побѣжалъ въ Колокъ, и, подумавъ о томъ, что было съ Кити и ребенкомъ, онъ прямо опять сталъ молиться. Несмотря на волненіе, онъ спрашивалъ себя, кому онъ молится, и зналъ и опять чувствовалъ близость его.
Это была короткая туча. Ужъ проясняло, и виденъ былъ свѣжій и черный осколокъ разбитаго дуба и дымъ. Недалеко подъ другимъ онъ увидалъ двухъ мокрыхъ съ облипшими платьями женщинъ, нагнутыхъ надъ телѣжечкой съ зеленымъ зонтикомъ. У няни подолъ былъ сухъ, но Кити была вся мокра. Когда онъ подбѣгалъ къ нимъ, шлепая сбивавшимися по неубравшейся водѣ ботинками, она оглянулась на него мокрая, съ шляпой, измѣнившей форму, и улыбалась. Митя былъ цѣлъ и даже сухъ.
Въ продолженіи всего дня Константинъ Левинъ ужъ ни разу не спорилъ. И за разговорами и суетой онъ радостно слышалъ полноту своего сердца, но боялся и спрашивать его. Онъ чувствовалъ одно: возможность удерживать свой умъ, не направлять его на то, на что не нужно, и удерживалъ его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, онъ началъ было ей разсказывать свое религіозное чувство, но, замѣтивъ ея холодность, тотчасъ же остановился. Но когда Кити, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ дѣтскую и онъ остался одинъ, онъ сталъ думать: «Молитва исполнена? Чудо? Нѣтъ. Зачѣмъ такъ грубо. Силы, природа, и той мы приписываемъ самые простые пути (экономію силъ природы), а Богъ – онъ измѣняетъ мое сердце, молитва сама измѣняетъ и воздѣйствуетъ». И цѣлый рядъ мыслей еще съ большей силой, чѣмъ утромъ, поднялся въ его душѣ.
Къ двери подошли шаги женскіе, но не женины. Это была няня.
– Пожалуйте къ барынѣ.
– Что, не случилось что нибудь?
– Нѣтъ, они радуются и вамъ показать хотятъ. Узнаютъ.
Дѣйствительно, придя въ дѣтскую, Левинъ убѣдился, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сіяла счастьемъ. Левинъ радовался зa нее, и весело ему было смотрѣть на то, какъ ребенокъ улыбался, смѣялся, увидавъ мать. Но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было тоже, которое становилось у него всегда на мѣсто ожидаемой имъ любви къ сыну, – чувство большей плоскости, уязвимости и тяжести и трудности предстоящаго. «Сербы! говорятъ они. Нетолько Сербы, но въ своемъ крошечномъ кругу жить не хорошо, а только не дурно. Это такое [счастье], на которое не могу надѣяться одинъ, а только съ помощью Бога, котораго я начинаю знать», подумалъ онъ.
Конецъ.
* № 201 (кор. № 125).
Левинъ покраснѣлъ отъ досады не за то, что онъ былъ разбитъ, а за то, что онъ не удержался и сталъ спорить. Онъ чувствовалъ, что братъ его нетолько раздраженъ, но озлобленъ на него, какъ человѣкъ, у котораго отнимаютъ его послѣднее достояніе, и видѣлъ, что убѣдить его нельзя, и еще менѣе видѣлъ возможность самому согласиться съ нимъ. Дѣло тутъ шло о слишкомъ важномъ для него. Все его воззрѣніе на жизнь зиждилось теперь на томъ, чтобы жить для Бога – по правдѣ, т. е. управлять тѣмъ не перестающимъ въ живомъ человѣкѣ и не зависимымъ отъ него рядомъ желаній, чувствъ, страстей, изъ которыхъ слагается вся жизнь, такъ, чтобы выбирать то, что добро. А по понятіямъ брата добро можно было опредѣлить. Было рѣшено разумомъ, что защитить Болгаръ было добро, и потому война и убійство уже не считалось зломъ, а оправдывалось.
То, что они проповѣдывали, была та самая гордость и мошенничество ума, которыя чуть не погубили его. Въ послѣднее свиданіе свое съ Сергѣемъ Ивановичемъ у Левина былъ съ нимъ споръ о большомъ политическомъ дѣлѣ русскихъ заговорщиковъ. Сергѣй Ивановичъ безжалостно нападалъ на нихъ, не признавая за ними ничего хорошаго. Теперь Левину хотѣлось сказать: за что же ты осуждаешь коммунистовъ и соціалистовъ? Развѣ они не укажутъ злоупотребленій больше и хуже болгарской рѣзни? Развѣ они и всѣ люди, работавшіе въ ихъ направленiи, не обставятъ свою дѣятельность доводами болѣе широкими и разумными, чѣмъ сербская война, и почему же они не скажутъ того же, что ты, что это, навѣрное, предлогъ, который не можетъ быть несправедливъ. У васъ теперь угнетеніе славянъ, и у нихъ угнетеніе половины рода человѣческаго. И если общественное мнѣніе – непогрѣшимый судья, то1848 оно часто склонялось и въ эту сторону и завтра можетъ заговорить въ ихъ пользу. И какъ позволять себѣ по словамъ десятка краснобаевъ добровольцевъ, которые пришли къ нимъ въ Москвѣ, быть истолкователями воли Михайлыча и всего народа?
* № 202 (кор. № 123).
Въ продолженіе всего дня Левинъ за разговорами и суетой продолжалъ радостно слышать полноту своего сердца, но боялся спрашивать его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, только на одну минуту ему пришло сомнѣніе о томъ, не сказать ли ей то, что онъ пережилъ нынѣшній день; но тотчасъ же онъ раздумалъ. Это была тайна, для одной его души важная и нужная и невыразимая словами.
– Вотъ именно Богъ спасъ, – сказала она ему про ударъ въ дубѣ.
– Да, – сказалъ онъ, – я очень испугался.
Онъ еще былъ одинъ у себя въ кабинетѣ, когда къ двери подошли шаги женскіе, но не женины. Это была няня.
– Пожалуйте къ барынѣ.
– Что, не случилось ли что-нибудь?
– Нѣтъ, онѣ показать вамъ хотятъ объ Митенькѣ.
Кити звала его, чтобы показать ему, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сіяла счастьемъ. Левинъ радовался за нее, и весело ему было смотрѣть на то, какъ ребенокъ улыбался и смѣялся, увидя мать; но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было то же, которое становилось у него всегда на мѣсто ожидаемой имъ любви, – чувство страха за него и за себя. Но не было никакой поразительности, никакой сладости, ничего того, что въ молодости считается признакомъ сильнаго чувства, а тихо, незамѣтно, то онъ и самъ не зналъ, когда ему въ сердце [вошло] это новое чувство и уже неискоренимо засѣло въ немъ.
Оставшись опять одинъ, когда она, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ дѣтскую, онъ сталъ вспоминать главную радость нынѣшняго дня. Онъ не вспоминалъ теперь, какъ бывало прежде, всего хода мысли (это не нужно было ему), но чувство, которое руководило имъ, чувство это было въ немъ еще сильнѣе, чѣмъ прежде.
«Новаго ничего нѣтъ во мнѣ, есть только порядокъ. Я знаю, къ кому мнѣ прибѣгнуть, когда я слабъ, я знаю, что яснѣе тѣхъ объясненій, которыя даетъ церковь, я не найду, и эти объясненія вполнѣ удовлетворяютъ меня. Но радости новой, сюрприза никакого нѣтъ и не можетъ быть и не будетъ, какъ и при каждомъ настоящемъ чувствъ, какъ и при чувствѣ къ сыну».
Графъ Левъ Толстой.
КОММЕНТАРИИ
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ».
I.
В тетради «Мои записи разные для справок» С. А. Толстая под 24 февраля 1870 г. отметила зарождение замысла «Анны Карениной»: «Вчера вечером он [Толстой] мне сказал, – записывает она, – что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».1849
Но к реализации своего замысла Толстой приступил лишь через три года. А тогда Толстого заинтересовала эпоха Петра I, из истории которой он начал писать роман (первый набросок этого романа был написан на следующий день после того, как Толстой поделился с женой мыслью о сюжете будущей «Анны Карениной» – 24 февраля 1870 г.), затем он усиленно стал заниматься греческим языком, работой над «Азбукой», педагогической работой в Ясной поляне и вновь романом из эпохи Петра I. Этот роман, для которого, по свидетельству С. А. Толстой, было написано десять начал, подвигался вперед однако очень туго. В письмах к Страхову и Фету от первой половины марта 1873 года Толстой жалуется на то, что работа его над этим романом «не двигается». И вот, 19 или 20 марта 1873 г. С. А. Толстая пишет своей сестре Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа – неверная жена и вся драма, происшедшая от этого» (Архив Т. А. Кузминской в Госуд. Толстовском музее). Тогда же, 19 марта, Софья Андреевна записывает в своей тетради: «Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка, и, кажется, хорошо»… Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой».1850
Литературная манера, в которой был начат роман, традиционно связывается с чтением в ту пору Толстым пятого тома сочинений Пушкина в издании Анненкова, где были помещены «Повести Белкина» и отрывки и наброски незаконченных повестей. В цитированной записи 19 марта относительно начала работы над «Анной Карениной» С. А. Толстая пишет: «И странно он на это напал. Сережа1851 все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись итти вниз отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л[евочка] взял эту книгу и стал перелистывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал мне вслух о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под впечатлением Пушкина стал писать».1852
Ф. И. Булгаков, вероятно со слов Т. А. Кузминской, точно указывает, какой именно отрывок Пушкина определил собой начальные страницы «Анны Карениной». Машинально раскрыв том прозы Пушкина в издании Анненкова и пробежав первую строку отрывка «Гости съезжались на дачу», Толстой невольно продолжал чтение. Тут в комнату вошел кто-то. «Вот прелесть-то – сказал Лев Николаевич. – Вот как нам писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу».1853 И, по словам Булгакова, Толстой в тот же вечер принялся за писание «Анны Карениной».
На основании этих указаний стало обычным утверждение, что Толстой начал роман словами: «Всё смешалось в доме Облонских…» – по образцу отрывка Пушкина сразу же вводя читателя в действие. П. А. Сергеенко, весьма неточно передавая эпизод с чтением Толстым пятого тома анненковского издания сочинений Пушкина, сообщает: «Начата была «Анна Каренина» при следующих обстоятельствах. Вечером в 1873-м году Лев Николаевич вошел в гостиную, когда его старший сын Сергей читал вслух своей тетке пушкинские «Повести Белкина». При появлении Льва Николаевича чтение прекратилось. Он спросил, что они читают, раскрыл книгу и прочитал: «Гости съезжались на дачу». «Вот как всегда следует начинать писать, – сказал Лев Николаевич. – Это сразу вводит читателя в интерес». Родственница Толстых сказала, что как бы хорошо было, если бы Лев Николаевич написал великосветский роман. Придя в свой кабинет, Лев Николаевич, в тот же вечер написал: «Всё смешалось в доме Облонских». И потом уже, когда начал писать роман, поместил в начале: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».1854
Однако полная недостоверность такого рода указаний на то, с чего и какими словами начал свой роман Толстой, обнаруживается в результате ознакомления по рукописям с процессом работы Толстого над «Анной Карениной». В действительности, по первоначальному замыслу роман начинался с эпизода, соответствующего VI и VII главам второй части окончательного текста романа, где идет речь о приеме гостей княгиней Бетси Тверской после оперного спектакля во Французском театре.
Самый ранний приступ к роману озаглавлен: «Молодец-баба» (см. вариант № 1). В нем идет речь о съезде гостей после оперы у княгини Мики Врасской (по первоначальному варианту – Кареловой). Только что княгиня Мика успела вернуться из театра, как стали съезжаться гости. Удаляясь на время в уборную, чтобы напудриться и привести в порядок свою прическу, Мика распоряжается приготовить в большой гостиной чай и вызывает из кабинета мужа, занятого своими гравюрами.
В гостиной общество, сгруппировавшееся около круглого стола с серебряным самоваром, пока еще не собрались все гости, занято незначительными светскими разговорами. Говорят о певице Нильсон, кто-то из гостей спрашивает, будет ли Кити, о которой хозяйка говорит, что она «душа в кринолине» и которая оказывается сестрой Каренина и затем упоминается еще раз, но уже по имени Мари. В числе гостей – молодой дипломат, человек острый и злой на язык, и графиня, полная дама, резкая и бесцеремонная в своих речах, прообраз княгини Мягкой в окончательном тексте романа (она, очевидно, и есть та «молодец-баба», которая фигурирует в заглавии).
Разговор, наконец, устанавливается, гости злословят об общих знакомых и преимущественно о тех, кто сейчас должен приехать. Это муж и жена. Фамилия их неустойчива: Гагины, Пушкины,1855 наконец Каренины. Имя жены – Анастасья (Ана, Нана), затем – Анна; имя и отчество мужа – Алексей Александрович. Про Анну говорят, что она некрасива, но завлекательна, об ее муже отзываются пренебрежительно-покровительственно.
Является брат Анны – Облонский, который зовется то Михаилом Аркадьичем, то Степаном Аркадьичем. Краткая характеристика его вполне согласуется с той характеристикой, которая будет дана ему в окончательном тексте романа. В разговорах упоминается его жена – «вся в хлопотах, в детях, в классах», словом, будущая Долли, и «прелестная свояченица» Кити, лечащаяся за границей от тяжелой болезни.
Вскоре в гостиную входит Вронский (первоначальная его фамилия Гагин), внешне напоминающий Вронского окончательного текста, но обращающий на себя внимание своей сильной плешивостью. Он «не в своей тарелке» и поминутно оглядывается на дверь в ожидании приезда Карениной, за которой он, по словам толстой дамы, ходит «как тень». Анна изображена некрасивой женщиной: у нее низкий лоб, короткий, почти вздернутый нос, чрезмерно полная фигура, настолько полная, «что еще немного, и она стала бы уродлива». При всем том она привлекательна.1856 Внешние недостатки ее искупают красивые глаза, стройность стана и грациозность движений, добрая улыбка и очень приятный голос. Муж ее – Алексей Александрович – «прилизанный, белый, пухлый и весь в морщинах», человек очень добрый, целиком ушедший в себя, рассеянный и не блестящий в обществе, производящий на общающихся с ним впечатление «ученого чудака или дурачка».
На характеристике супругов обрывается первый набросок. Он написан стилистически очень небрежно, в полном смысле слова начерно.
Вслед за этим наброском последовал второй, сходный с ним в ряде частностей, но доведенный лишь до приезда Карениных к княгине Тверской («Врасская» здесь исправлено на «Тверская») (см. вариант № 2). Толстой начал его фразой: «Гости после оперы собрались у княгини Врасской», но зачеркнул эту фразу, как и начало новой: «Приехав из оперы, княгиня Мика, как ее звали в свете», и начал так: «Приехав из оперы, хозяйка только успела в уборной опудрить свое худое, тонкое лицо…»
Наконец, Толстой конспективно, очень бегло, особенно к концу, набросал весь костяк романа, ограничившись для отдельных глав лишь краткими пометками в несколько слов об их содержании (см. вариант № 3). Позднее, приспособляя часть этого материала к новому тексту романа со значительно изменившимся планом, Толстой сделал в нем ряд существеннейших исправлений и изменил имена персонажей. Кроме того, он сделал много заметок на полях. Последующие исправления с большой долей точности распознаются по цвету чернил. В этом наброске отсутствуют еще семья Щербацких, Левин. Они фигурируют лишь в планах, приписанных позднее на полях, где будущий Левин большею частью зовется Ордынцевым. Семья, которая в окончательном тексте получит фамилию Облонских, лишь упоминается, и то также большею частью в позднее приписанных на полях пометках. Героиня романа зовется Татьяна Сергеевна Ставрович, муж ее – Михаил Михайлович, возлюбленный – Иван Петрович Балашев. Вместо графини Лидии Ивановны выступает сестра Михаила Михайловича, носящая здесь имя Кити.
Как и первые два наброска, этот текст начинается с эпизода съезда гостей после оперы у молодой хозяйки. Среди собравшихся заходит разговор о чете Ставрович. О жене уже говорят как о красавице, которая имеет мужа, какого заслуживают «красавицы жены»; она «слишком хороша, чтоб у нее был муж, способный любить». Одна из дам-собеседниц удивляется, почему госпожу Ставрович везде принимают: у нее нет ни имени, ни манеры держать себя; она дурно кончит. О муже ее отзываются как о человеке тихом, кротком, наивном, ласковом к друзьям жены, должно быть, очень добром. И в дальнейшем он изображается с явным авторским сочувствием, гораздо привлекательнее, чем в окончательной редакции.
В гостиной появляется Леонид Дмитрич – будущий Облонский, брат Татьяны Сергеевны (несмотря на то, что отчества у них разные, быть может, потому, что у них были разные отцы, если тут дело не в простой рассеянности автора). Он приехал из Буффа, который предпочитает опере, потому что в Буффе весело, а в опере скучно. В позднейших редакциях речь идет о приезде из Буффа не Леонида Дмитриевича, а Вронского, который и произносит слова в защиту Буффа.
Наконец, появляются Ставровичи. Жена одета вызывающе, и вместе с тем в ее красивом лице отражается ее простота и смирение. На полях тут же о ней замечено: «Застенчива. Скромна», хотя, с другой стороны, она во всеуслышание, не смущаясь и шокируя хозяйку, заявляет, что задержалась с мужем потому, что они заехали домой: надо было написать записку Балашеву, который приедет сюда. Фигура ее тут совсем не похожа на ту, какая дана в первом наброске: она «тонкая и нежная»; беседу ведет она изящно, умно и непринужденно.
Внешность мужа Татьяны Сергеевны попрежнему очень неказиста: лицо у него «белое, бритое, пухлое и сморщенное», морщится в добрую улыбку; говорит он невнятно, с усилием, некстати и не во время, так что его и не слушают. На полях о нем приписано: «Что-то противное и слабое». Он увлекается миссионерскими делами, то есть занят тем, что потом приписано было его сестре, вместо которой позднее была выведена графиня Лидия Ивановна.
В двенадцатом часу появляется Балашев. Его «фигурка», невысокая и коренастая, всегда обращала на себя внимание. Он – «черный и грубый», – несмотря на свои 25 лет, уже плешив. В левом ухе, по старинному семейному преданию, он, как и все Балашевы, носит серебряную кучерскую серьгу. Сразу же, сказав несколько слов хозяйке, он подходит к Татьяне Сергеевне, и они вплоть до разъезда гостей остаются вдвоем за круглым столиком в углу гостиной. Это настолько шокирует общество, что с тех пор Татьяна Сергеевна не получает ни одного приглашения на балы и вечера большого света; муж же, уехавший неожиданно для жены ранее ее, знал уже, что «сущность несчастия совершилась».
Проходит три месяца. Ставрович – муж стремится найти отвлечение от своего семейного несчастия в любимой работе – устройстве миссий на Востоке, несмотря на то, что здоровье его сильно расшатано и его домашний врач настоятельно советует ему уехать для лечения за границу. И доктор и старый приятель Ставровича, директор департамента, – оба с возмущением и осуждением говорят и думают об его жене, «дьявольском наваждении», причине горестей и расстройства здоровья мужа.
Далее рассказывается о приготовлении Балашева к скачкам, о свидании его перед скачками с Татьяной Сергеевной, во время которого она сообщает ему о своей беременности и, наконец, о самих скачках. В основном всё это довольно близко к соответствующим эпизодам окончательного текста, хотя стилистически далеко еще не отделано.
Ставрович-муж приезжает на скачки для того, чтобы окончательно разрешить свои сомнения. Он решает поговорить с женой в последний раз, а также с сестрой, «с божественной Кити», горячо привязанной к брату. Со скачек он возвращается на дачу один, без жены. С ним сестра, к которой он обращается зa поддержкой и за советом, как ему быть дальше. Он чувствует, что он «несчастное, невинное, наказанное дитя». Вскоре приезжает жена. В душе ее «дьявольский блеск» и решимость ни перед чем не останавливаться. Ни одной искры жалости не было у нее к этим двум «прекрасным (она знала это) и несчастным от нее двум людям». Она лжет, говоря, что была у своей приятельницы, полна мыслями о скором свидании с любовником и как бы радуется своей способности лгать и гордится ею. Внешне непринужденно и спокойно, с рассчитанным притворством, она разговаривает с мужем, с аппетитом пьет чай, много ест. В ответ на вопросы мужа, намекающие на ее отношения к Балашеву, она отделывается ничего не значащими фразами и со счастливым, сияющим, спокойным, «дьявольским» лицом целует мужа в лоб. Только один раз, когда муж, передавая ей чашку, сказал: «еще, пожалуйста», она вдруг покраснела так, что слезы выступили у нее на глаза, и потом, когда коляска с мужем отъехала, она «страдала ужасно».
О неверности жены Михаил Михайлович узнает от сестры, сообщающей ему об этом на другой день в письме. С тех пор он не виделся с женой и вскоре уехал из Петербурга.
Весь этот материал разбит на шесть глав. Для следующих четырех глав лишь намечен очень краткий план. В седьмой главе речь должна была итти о беременности Татьяны Ставрович. В восьмой главе должно было говориться о поездке Михаила Михайловича в Москву и о посещении им дома Леонида Дмитриевича, будущего Облонского. План главы девятой определяется следующей записью: «В вагоне разговор с нигилистом». Еще раньше, в плане, набросанном на полях рядом с текстом шестой главы, в связи с Михаилом Михайловичем отмечено: «нигилисты утешают». Судя по тому, что нигилисты в данном наброске упоминаются и тогда, когда речь идет о Татьяне Ставрович, они должны были – по замыслу Толстого – принимать какое-то участие – видимо, своими советами, высказываниями своих взглядов – в семейной драме Ставровича; однако нигде, если не считать упоминания в первом плане о встрече Каренина с нигилистом, в черновых материалах романа, так же как и в окончательном его тексте, они не фигурируют по связи с судьбой Михаила Михайловича. Но о них, как увидим сейчас, несколько яснее говорится применительно к судьбе Татьяны Сергеевны и Балашева. Для десятой главы записано: «Роды, прощает», т. е. прощает Михаил Михайлович.
Дальнейшее развитие романа намечено в двух главах – одиннадцатой и двенадцатой – очень конспективно. В главе одиннадцатой смирение, доброта и кротость Михаила Михайловича подчеркиваются безучастным и даже враждебным отношением к нему его жены и Балашева, который раньше (ср. главу четвертую) думал о нем уважительно и относился к нему сострадательно: когда Татьяна говорит о муже: «он глуп и зол», Балашев думает: «Ах, если б он был глуп, зол. А он умен и добр».
Двенадцатая глава изображает полную душевную потерянность Ставровича, его неприкаянность. Татьяна Сергеевна в разводе со своим первым мужем. У нее и Балашева двое детей. Балашева и Татьяну притягивает свет, «как ночных бабочек». Они оба ищут признания себя в нем, но тщетно. Те, признанием которых они дорожат, отворачиваются от них, а признание людей свободомыслящих, ездящих к ним и принимающих их у себя, – дурно воспитанных писателей, музыкантов, живописцев, не умеющих благодарить за чай, не радует их. К тому же Балашев, «слишком был твердо хороший, искренний человек, чтобы променять свою гордость, основанную на старинном роде честных и образованных людей, на человеческом воспитании, на честности и прямоте, на этот пузырь гордости какого-то выдуманного нового либерализма». Чутье ему тотчас подсказывает «ложь этого утешения» презираемых им людей.
С. А. Толстая так описывает Пирогову: «Анна Степановна была высокая, полная женщина, с русским типом лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная» (Дневники Софии Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 44—45). В дальнейшей работе над романом всюду подчеркивается красота Анны. Лишь в варианте № 20 (рук. № 17) о лице Анны сказано было, что оно было «простое, свежее, румяное, неправильное и чрезвычайно привлекательное». Но затем все это было зачеркнуто и оставлено только одно слово – «простое».