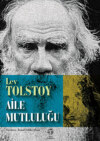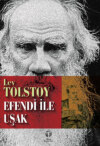Kitabı oku: «Война и мир», sayfa 6
XVI
Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел. Когда заслышались не тихие, но быстрые, приличные шаги молодого человека, тринадцатилетняя девочка быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.
– Борис Николаич! – проговорила она басом, пугая его, и тотчас же засмеялась. Борис увидал ее, покачал головой и улыбнулся.
– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. Он подошел к ней, пробираясь между кадками.
– Борис! Поцелуйте Мими, – сказала она, плутовски улыбаясь и выставляя куклу.
– Отчего же не поцеловать? – сказал он, подвигаясь ближе и не спуская глаз с Наташи.
– Нет, скажите: не хочу.
Она отстранилась от него.
– Ну, можно сказать и не хочу. Что веселого целовать куклу?
– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и потом глубже ушла в цветы и бросила куклу на кадку цветов. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.
– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.
Борис покраснел.
– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая. Чуть заметная насмешливость порхала еще на его губах, готовая исчезнуть.
Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.
– Ах, что я наделала! – закричала она, смеясь проскользнула между горшками на другую сторону цветов, резвые ножки быстро заскрипели по направлению к детской. Борис побежал за ней и остановил ее.
– Наташа, – сказал он, – а тебе можно говорить ты?
Она кивнула головой.
– Я тебя люблю, – сказал он медленно. – Ты не ребенок. Наташа, сделай то, о чем я тебя попрошу.
– О чем ты меня попросишь?
– Пожалуйста, не будем делать того, что сейчас, еще четыре года.
Наташа остановилась, подумала.
– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено? – И серьезная улыбка радости осветила ее оживленное, хотя и некрасивое лицо.
– Кончено! – сказал Борис.
– Навсегда? – говорила девочка. – До самой смерти?
И она, взяв его под руку, тихо пошла с ним рядом в детскую. Красивое, тонкое лицо Бориса покраснело, и в губах совершенно исчезло выражение насмешки. Он выпрямил грудь и счастливо, самодовольно вздохнул. Глаза его смотрели, казалось, далеко в будущность, за четыре года, в счастливый 1809 год.
Молодежь собралась опять в детскую, где больше всего она любила сидеть.
– Нет, не уйдешь! – закричал Николай, все делавший и говоривший страстно и порывисто, одною рукой хватая Бориса за рукав мундира, другою отнимая руку у сестры. – Ты обязан обвенчаться.
– Обязан, обязан! – закричали обе девочки.
– Я буду дьячок, Николаенька, – кричал Петруша. – Пожалуйста, я буду дьячок «Господи, помилуй!»
Казалось бы непонятным, что могли находить веселого молодые люди и девушки в венчании куклы с Борисом, но стоило только посмотреть на торжество и радость, изображенные на всех лицах, в то время, как кукла, убранная померанцевыми цветами и в белом платье, была поставлена на колышек лайковым задом, и Борис, на все соглашавшийся, подведен к ней, и как маленький Петруша, надев на себя юбку, воображал себя дьячком, – стоило только посмотреть на все это, чтоб, и не понимая этой радости, разделить ее.
Во время одевания невесты Николай и Борис были выгнаны для приличия из комнаты. Николай в волнении ходил по комнате и про себя ахал и пожимал плечами.
– Что с тобой? – спросил Борис.
Тот поглядел на своего друга и отчаянно махнул рукой.
– Ах, ты не знаешь, что со мной сейчас случилось! – сказал он, хватая себя за голову.
– Что? – спросил Борис насмешливо и спокойно.
– Ну, я уезжаю, а она… Нет, я не могу сказать!
– Да что же? – повторил Борис. – С Соней?
– Да. Знаешь что?
– Что?
– Ах, удивительно! Как ты думаешь? Обязан я после этого все сказать отцу?
– Да что?
– Знаешь, я сам не знаю, как это случилось, я поцеловал нынче Соню; я скверно поступил. Но что же мне делать? Я до безумия влюблен. А дурно это с моей стороны? Я знаю, что дурно… Как ты скажешь?
Борис улыбнулся.
– Что ты говоришь? Неужели? – спросил он с хитрым и насмешливым удивлением. – Так и поцеловал в губы? Когда?
– Да сейчас. Ты бы не сделал этого? А? Не сделал бы? Я дурно поступил?
– Ну, не знаю. Все зависит от того, какие ты имеешь намерения.
– Ну! Еще бы. Это верно. Я ей сказал. Как меня произведут в офицеры, так я женюсь на ней.
– Это удивительно, – повторил Борис. – Как ты, однако, решителен!
Николай, успокоившись, засмеялся.
– Я удивляюсь, отчего ты никогда не был влюблен и в тебя не влюблялись.
– Такой мой характер, – сказал Борис, краснея.
– Ну, да ты хитрый! Правду Вера говорит. – Николай вдруг принялся щекотать своего друга.
– А ты отчаянный. Правду же Вера говорит. – И Борис, боявшийся щекотки, отталкивал руки своего друга. – Ты уж что-нибудь сделаешь необыкновенное.
Оба, смеясь, вернулись к девочкам для совершения обряда венчания.
XVII
Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Кроме того, ей хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.
– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось старых друзей. От этого я так и дорожу твоею дружбой.
Княгиня посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.
– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно нелюбимой. – Как у вас ни на что такта нет. Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам или…
Красивая Вера улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления, и прошла в свою комнату. Но, проходя мимо детской, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Соня сидела близко подле Николая, который с разгоряченным лицом читал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и молчали. Борис держал ее руку и выпустил при появлении Веры. Наташа взяла стоявший подле нее ящичек с перчатками и стала перебирать их. Вера улыбнулась. Николай с Соней посмотрели на нее, встали и вышли из комнаты.
– Наташа, – сказала Вера меньшей сестре, внимательно перебиравшей душистые перчатки. – Что это Николай с Соней от меня бегают? Что у них за секреты?
– Ну, что тебе за дело, Вера? – тоненьким голоском, заступнически проговорила Наташа, продолжая свою работу. Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, добра и ласкова от счастья.
– Очень глупо с их стороны, – сказала Вера тоном, который показался обиден Наташе.
– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала она, разгорячаясь.
– Как глупо! А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься. Это нехорошо.
Борис поднялся и вежливо поклонился Вере.
– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится. Я не могу жаловаться, – сказал он насмешливо.
Наташа не засмеялась и подняла голову.
– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову), даже скучно, – сказала она. – За что она ко мне пристает?
И она обратилась к Вере.
– Ты это никогда не поймешь, – сказала она, – потому что ты никогда никого не любила, у тебя сердца нет, ты только мадам де Жанлис (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь.
Это она проговорила скоро и вышла из детской.
Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, опять улыбнулась тою же улыбкой, ничего не значащею, и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.
XVIII
В гостиной продолжался разговор.
– Ах, милая, – говорила графиня, – и в моей жизни не все розы. Разве я не вижу, что при таком образе жизни нашего состояния нам не надолго? И все это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Анет, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.
– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Княгиня такая-то желает видеть такого-то», – и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.
– Ну, как же ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь твой уж офицер гвардии, a Николай идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?
– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.
– Что, он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. Я думаю, забыл про меня. Он за мною волочился, – вспоминала графиня с улыбкой.
– Все такой же, – отвечала Анна Михайловна. – Князь любезен, рассыпается. Высокое положение нисколько не вскружило ему голову. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Натали, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна, с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, буквально нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении. Одна моя надежда теперь на князя Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника – ведь он крестил Борю – и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут, мне не на что будет обмундировать его.
Графиня прослезилась и молча соображала что-то.
– Часто думаю, может это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот князь Кирилл Владимирович Безухов живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.
– Он, верно, оставит что-нибудь Борису, – сказала графиня.
– Бог знает. Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему, и с Борисом, и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа. А в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.
И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери. – Пожелай мне успеха, – прибавила она шепотом от сына.
– Вы к князю Кириллу Владимировичу, моя милая, – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно… Hy, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорят, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.
XIX
– Мой милый Борис, – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий, усыпанный красным песком двор известного, с колоннами, дома графа Кирилла Владимировича Безухова. – Мой милый Борис – сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – оставь, пожалуйста, свою гордость. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, будь мил, как ты умеешь быть.
– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения, – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас. Только это в последний раз, маменька. Помните.
Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.
– Мы можем уехать, – сказал сын по-французски, видимо, обрадованный этим известием.
– Друг мой! – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокаивать или возбуждать его.
Борис, опасаясь сцены при швейцаре, замолчал с видом человека, решившегося испить чашу до дна. Он, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.
– Голубчик, – нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь. к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я за тем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.
Швейцар угрюмо дернул шнурок наверх и отвернулся.
– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.
Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх, по ковру лестницы.
– Милый, ты мне обещал, – обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его. Сын, опустив глаза, шел не весело.
Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василию.
В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Лоррен.
– Итак, это верно, – говорил князь.
– Князь, человеку свойственно ошибаться, но… – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.
– Хорошо, хорошо….
Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и, молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын с удивлением заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах княгини Анны Михайловны.
– Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь… Ну, что наш дорогой больной? – сказала она, не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда и обращаясь к князю как к лучшему другу, с которым можно разделить горе. Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.
– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.
Борис еще раз учтиво поклонился.
– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.
– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемой Анною Михайловной, еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере Анны Шерер.
– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад… Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.
– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и холодно, что князь пристально поглядел на него.
– Вы живете с матушкой?
– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять холодно прибавив: – ваше сиятельство.
Он говорил «ваше сиятельство», видимо, не столько для того, чтобы польстить своему собеседнику, сколько для того, чтобы воздержать его от фамильярности.
– Это тот Илья Ростов, который женился на Натали З., – сказала Анна Михайловна.
– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом и с свойственным петербуржцу презрением ко всему московскому.
– Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же, игрок, говорят, – сказал он, выказывая тем, что, при всем своем презрении к графу Ростову и ему подобным и при своих важных государственных делах, он не чуждался городских сплетен.
– Но очень добрый человек, князь, – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.
– Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем заплаканном лице.
– Мало надежды, – сказал князь.
– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. Это его крестник, – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.
Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его.
– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностью и небрежностью выговаривая это слово, – я знаю его характер, благородный, прямой, но, ведь одни княжны при нем… Они еще молоды… – Она наклонила голову и прибавила шепотом: – Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может, его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины, князь, – она мило улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.
Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере Анны Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.
– Не было бы тяжело ему это свидание, милая Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.
– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина. – Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон, племянниц графа, с красивым, угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.
Князь Василий обернулся к ней.
– Ну что он?
– Все то же. И как вы хотите, этот шум… – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну как незнакомую.
– Ах, милая, я не узнала вас, – со счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. – Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались, – прибавила она с участием, закатывая глаза.
Княжна даже не улыбнулась, попросила извинения и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.
– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась. – Я пройду к графу… к дяде, а ты поди покамест к Пьеру, мой друг, да не забудь передать ему приглашенье от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.
– Напротив, – сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. – Я был бы рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека. Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.
Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Владимировичу.