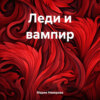Kitabı oku: «Леди, которых не было», sayfa 7
Больше за вечер друзья не касались этой истории, без затруднений находя другие темы для разговоров.
Через две недели по счастливому случаю мистеру Утерсону довелось посетить один из пышных обедов в доме Джекилов. Мисс Гвенет Джекил, как и всегда, была очаровательна и мила, но теперь каждый раз при взгляде на неё адвокат вспоминал странную историю её исчезновения, что заставляло его периодически погружаться в мрачную задумчивость. Мисс Джекил, учтивая и вежливая девушка, ощутимо переживала от того, что вызывает тоску одного из гостей. Она совершенно верно приняла мрачное настроение Утерсона на свой счёт, но дала ему абсолютно неправильное толкование. А потому, отлучившись ненадолго в свою комнату, она с
печальной улыбкой подошла к Утерсону, незаметно вложив ему в руку письмо. Записка, полученная от Гвенет Джекил, гласила:
Мне невыносимо видеть, как вы страдаете из-за меня. Вы тянетесь ко мне взглядом, но тут же в печали отводите глаза, и пропускаете все веселья вечера. Увы, я не чувствую того же томления и не могу принять ваши чувства. Всё, что я могу сделать, это быть с вами честной, избавив вас от пустого кокетства, и надеяться, что время и правдивые слова помогут вам излечиться от вашей тоски.
Со всей искренностью,
Гвенет Джекил.
Предположение мисс Джекил смутило мистера Утерсона. Он убрал письмо в сейф, положив его поверх загадочной папки, и приложил все усилия, чтобы не думать больше о странном завещании и не менее странном исчезновении, а также не смотреть слишком часто на мисс Джекил. В обоих начинаниях мистер Утерсон достиг немалых успехов.
Через три месяца Лондон всколыхнуло новое таинственное исчезновение. На этот раз пропала доктор Эмилия Хайд, знаменитая ученая леди, за несколько лет крепко приковавшая к себе внимание научного сообщества. Эмилия Хайд пропала накануне окончательного одобрения её членства в Королевской академии, к которому она стремилась длительное время, а потому даже самые отъявленные скептики не верили, что исчезновение её может быть случайным или добровольным. Другой интересной особенностью этого дела было то, что никто не мог точно сказать, когда же пропала доктор Хайд. Газеты с восторгом печатали подробности, устраивая целые расследования. Как выяснили журналисты, ещё несколько месяцев назад Эмилия Хайд перестала устраивать личные встречи и появляться в Академии, но при этом вела активную переписку с рядом ученых, содержание которой не позволяло предположить, что письма могли быть написаны заранее. При этом не нашлось никого, кто видел бы женщину лично позднее, чем за два месяца до пропажи. А оплата квартиры, где жила Эмилия Хайд, перестала поступать за несколько недель до первого сообщения в полицию. Именно домовладелец и обратился к полицейским, желая стребовать штраф с нерадивой квартирантки.
Эти новости заставили мистера Утерсона снова вспомнить о странном завещании. Особенно тревожило его примечание о «внезапном исчезновении», совершенно нетипичное для такого рода документов и при этом ставшее пророческим. Мистер Утерсон не верил в мистические материи, но это не уменьшало его волнений. Усиливающиеся с каждым днем переживания подтолкнули адвоката принять щекотливое решение. Хоть Утерсон и не любил полагаться на кого-либо, кроме себя, теперь он явственно нуждался в добром совете. Ему казалось немыслимым обратиться к кому-нибудь прямо, но он надеялся, что сможет исподволь получить
толковое мнение по интересующему его вопросу. Именно поэтому одним тихим вечером Утерсон расположился в кресле у камина, а мистер Гест, его клерк, занял второе кресло. Между мужчинами стояла бутылка старого вина. Вся комната, освещенная теплыми отблесками пламени, дышала уютом. За окном гудел холодный ветер и шумел большой город, жизнь которого шла своим чередом, и это на контрасте придавало атмосфере теплой комнаты ещё большую гостеприимность. Возможно, дело было в этом тепле и в бутылке вина, подошедшей к концу, возможно, в том, что у адвоката ни от кого на свете не было меньше тайн, чем от своего клерка, но Утерсон задумался о том, какой хорошей идеей было бы рассказать гостю о завещании и узнать о его выводах. К тому же Гест отлично разбирался в почерках, а потому не нашёл бы ничего странного в том, что ему покажут текст, написанный рукой пропавшей девушки. Прочитав же странный документ, клерк обязательно бы высказался на этот счет – это и было главной целью Утерсона. Он надеялся получить какой-либо комментарий, который смог бы подтолкнуть ход его мыслей.
Решившись, адвокат произнёс:
– Странное дело с этой пропавшей дамой.
– Действительно, это происшествие – одна сплошная загадка, – отозвался Гест. – Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что мы имеем дело с импульсивной особой, внезапно покинувшей город. Насколько мне известно, родственники не объявляли её поиски, и даже вовсе не выходили на связь с газетчиками.
– Мне бы хотелось узнать, что вы скажете о её почерке, – продолжил Утерсон. – У меня есть документ, написанный ею. Возможно, посмотрев на него, вы сможете явственно определить, могла ли эта леди спонтанно сбежать из города.
Утерсон принес из сейфа папку и, отложив записку мисс Джекил, подал документ гостю. Гест принял исписанные листы со страстным любопытством и затих на несколько минут.
– Зачем же вы пытаетесь обмануть меня? – внезапно с неудовольствием спросил Гест.
– Позвольте, но я совершенно искренен с вами, – с удивлением в голосе ответил Утерсон.
– Разве весело вам так упорно делать вид, что вы знаете не больше меня, когда вас связывают с пропавшей совсем не деловые отношения? – С этими словами Гест поднял записку с отказом Гвенет Джекил.
– Вы ошиблись, друг мой. Это письмо написала совсем другая девушка, – твёрдо сказал Утерсон.
– Я поверю вам, если вы настаиваете, – ответил Гест, а затем пояснил свои подозрения: – Но я вижу между этими почерками большое сходство. Я скажу больше, они во многом абсолютно одинаковы. Отличие в них только одно: в завещании буквы сильно наклонены влево, так, будто писавшая это пыталась изменить свой почерк, поставив руку непривычным образом.
Весь оставшийся вечер Утерсон был крайне задумчив. Разговор, что должен был помочь ему, породил лишь новые тревоги. Адвокат задумался, что мог бы значить тот факт, что завещание Эмилии Хайд на самом деле было написано рукой Гвенет Джекил. Если раньше Утерсон сомневался, не могла ли мисс Джекил пасть жертвой хитроумных манипуляций подруги, то теперь он впервые задумался, не была ли жертвой именно пропавшая Эмилия Хайд.
Через два дня Утерсон получил приглашение Ленайона, который просил друга прийти как можно скорее. Адвокат прибыл, как только ему позволили дела. Его тут же приняли, доктор выглядел взволнованным и несколько больным. Утерсон был готов поручиться, что лишь молодость помогла его другу остаться на ногах, иначе эмоциональное потрясение обязательно подкосило бы Ленайона. Утерсон был готов немедленно выслушать друга, но тот лишь нервно ходил по комнате, не в силах собраться. Наконец он остановился и, взволнованно взмахнув руками, начал:
– Вчера служанка из дома Джекилов принесла мне письмо Эмилии Хайд. Когда я спросил ей, откуда она взяла письмо, написанное человеком, пропавшим недели назад, она рассказала мне сущую нелепицу: якобы письмо лежало на полу перед комнатой мисс Джекил, но из-за закрытой двери с ней говорила доктор Хайд, которая и приказала ей отнести его мне. Дальше она начала рассказывать вещи, которые показались мне совершенно сумасшедшими. Она сказала, что Гвенет Джекил давно уже не она сама, а какая-то мошенница, выдававшая себя за мисс Джекил. По её словам, после болезни девушка сильно изменилась, включая цвет глаз и характер, но обрадованные чудесным выздоровлением родственники закрыли глаза на все странности. Теперь же, уверяла меня служанка, мошенница нашла себе новую жертву и скоро расправится с доктором Хайд, чтобы завладеть её открытиями, что должны принести злодейке много денег, поскольку, как всем известно, ученые Королевской Академии всегда крайне богаты. Я отослал её, не желая больше слушать глупости. Но, когда я прочел письмо, я понял, что эта женщина, возможно, была единственной зрячей среди слепцов, пусть её знаний и не хватало для того, чтобы понять, что именно она видела.
Закончив свой рассказ, Ленайон передал Утерсону короткую записку, которая прилагалась к письму:
«Уважаемый Ленайон, когда эта записка будет у вас в руках, я исчезну. Сейчас я не могу точно сказать, при каких обстоятельствах, но знаю, это случится; все обстоятельства указывают на то, что мне осталось недолго. Наша с вами переписка не выходит за рамки научных прений, но, уверяю вас, именно научный вопрос и станет причиной моего скорого исчезновения. Если вы захотите узнать больше, прочтите письмо, что вам передадут – так вы узнаете полную историю вашей несчастной коллеги Эмилии Хайд».
Почерк, которым была написана записка, также отличался наклоном влево. После разговора с Гестом Утерсон начал замечать эту деталь. Пока адвокат читал сопроводительную записку, Ленайон достал папку с письмом и передал его другу:
– Ты так упорно хотел докопаться до правды, скрытой за всеми этими странными исчезновениями. Уверен, ты достоин того, чтобы узнать всё. Я отдаю это письмо тебе. Но тебе самому выбирать, прочтешь ли ты его, и если решишься – поверишь ли написанному.
Полный рассказ Гвенет Джекил «Я родилась в 18.. году среди богатства, с прекрасными дарованиями и со наклонностью к науке. Я с юности желала заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей, и каково же было моё разочарование, когда я поняла, что мне уготованы не открытия в науках и великие дела, ведущие человечество к процветанию, а лишь покорность и спокойствие, которые пристало проявлять приличной жене. Мне пришлось со слезами умолять свою гувернантку тайно обучать меня арифметике и истории. Какая горькая ирония – чтобы получить место гувернантки, этой бедняжке пришлось годами учить в строгом пансионе науки и языки, чтобы потом родители девочек требовали привить тем добродетели, необходимые хорошим женам, и ни в коем случае не забивать прелестные головки ненужными знаниями. О, как я завидовала этой девушке, чья жизнь была куда сложнее моей и чьё будущее казалось куда безнадёжнее моего!
Став старше, я получила возможность пользоваться семейной библиотекой и даже изредка развлекать беседой кого-нибудь из гостей, кто благосклонно решил выслушать наивные заключения юного создания. Но этого мне было мало. Если я и могла внести вклад в науку, то лишь направив какому-нибудь бедному ученому побольше благотворительных средств или взявшись перевести научное эссе своего ученого приятеля с его родного языка на английский. Я чувствовала настоятельную потребность как в теоретических знаниях, так и в смелых экспериментах. И вместе со стремлением к благодетели мою душу терзало тщеславие. Я жаждала совершать открытия и получать за то свою долю славы и признания. А эгоизм подталкивал меня к тому, чтобы забыть о своём долге перед семьей и обществом, и, скрывшись от пышности приемов, скуки благотворительных собраний и однообразия салонов, полностью посвятить себя своим дерзким изысканиям.
Думаю, вы сейчас негодуете: как так могло случиться, что столь низменные стремления вели меня в столь благородную сферу, как естествознание. Но не переживайте, я наказана сполна за свою гордыню и строптивость. Также, возможно, вы сейчас задаетесь вопросом: почему же я не взбунтовалась против тех обстоятельств, что действовали на меня таким гнетущим образом?
Постепенно я научилась смотреть вокруг себя и ценить своё положение в свете. В это
время я вела уже глубоко двойственную жизнь. Хотя я и действовала таковым образом, я не была лицемеркой. И в своей секретной, и в своей публичной жизни я поступала вполне искренне. Я была самой собой, когда запиралась в старом кабинете с реактивами, чтобы провести очередной тайный опыт, или, переодевшись в мужское платье, посещала анатомический театр и лекции именитых ученых. Но также я была не менее собой, когда примеряла новое платье, предвкушая улыбки и комплименты, или музицировала перед гостями дома, купаясь в их одобрении и аплодисментах.
Я стала скрывать свои идеи и знания, что расстраивали мою семью и отвращали от меня поклонников. То, как мои тайные стремления разграничили мою жизнь и личность на две одинаково ценных для меня части, заставило меня задуматься о суровом жизненном законе. Особенно сильно интересовало меня, как так вышло, что мои порывы, столь благородные и одобряемые для мужчины, могли быть лишь тайной страстью для женщины. Но моё затруднительное положение было для меня одновременно и благословением. Там, где юноша моего возраста и склада ума был бы окружен соблазнами и тратил годы своей жизни на низменные удовольствия и порочные наслаждения, я, укрытая заботливыми родителями от любых радостей и тревог, могла тратить все свои душевные силы на свою единственную страсть.
И вот направления моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем! Я с каждым днем все больше и больше убеждалась, что человек не одно существо, а два. Я говорю «два», потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня, и я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни я шла в одном направлении, и только в одном.
С давних пор, гораздо раньше, чем мои научные открытия сделали подобное чудо реальностью, меня интересовала идея разъединения разнородных частей человеческой натуры. Как я думала: «Если бы каждая из противоречивых частей натуры человека получила бы своё тело и освободилась от тех элементов, что были ей невыносимы, то каждая из них пошла бы своим путем: мятежная душа бросилась бы исполнять свои мечты, невзирая на сложности и людское неприятие, а ее спокойная и праведная сестра осталась бы поддерживать свою спокойную и благопристойную жизнь, не мучаясь от внезапных порывов. Такое разделение могло бы также помочь и тем, кого терзает не тяга к свободе, но собственная неправедная часть, что вступает в конфликт с благородной стороной. Любому, кто тяготится своей двойственностью, принесло бы облегчение подобное размежеван
эти несходные части связаны между собой, и враждующие близнецы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их?»
С этими размышлениями я начала изучать вещества, способные повлиять на абсолютную материальность человеческого тела, к которой мы так привыкли. Я увидела, что определенные составы имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставлять её отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает её от окна.
Я не стану углубляться в научные объяснения. Во-первых, я боюсь, что, попади мой секрет не в те руки, процесс, бывший для меня добровольным изысканием, для сотен и тысяч моих сестер станет страшной карой за непокорность и вольнодумие. Во-вторых, прочитав мой рассказ, вы поймете, что моё открытие неполно, а потому ведет к страшным последствиям. Я скажу только, что мне удалось приготовить состав, который мог влиять на силы, составляющие мой дух. Этот состав мог выделить одну из этих сил и привести ее к главенствующей роли, дав ей оболочку, что так же будет свойственна мне, как и первоначальная, так как всё же сила эта является частью моей натуры.
Долго я не решалась проверить эту теорию на опыте. Будучи отлично осведомленной о риске, я боялась неудачи, но и успеха я боялась не меньше. Избавиться от тяги к экспериментальной науке, от ученого тщеславия, отравляющих жизнь в золотой клетке, и – какая ирония! – сделать это посредством результата этой же тяги, этого же тщеславия. Иногда подобный исход казался мне даже хуже той жуткой участи, на которую меня могла облечь малейшая ошибка в расчетах смеси, ведь любой недочет мог и вовсе нарушить материальную целостность тела. Я давно купила большое количество одной соли, которая была последним ингредиентом смеси, необходимой для моего эксперимента. Но я боялась и медлила. Но однажды вечером, когда слуги вновь рассказали моему дражайшему отцу о моих вечерних занятиях, и он разразился гневной речью о моих, как он уверен, несуществующих талантах, и том, сколько удачных брачных предложений я отвергла, и как мало осталось у него терпения, я решилась. Я просто устала. В слезах я смешала два вещества и наблюдала за их кипением в стакане. Как только реакция закончилась, я хладнокровно выпила получившийся состав.
Начались ужасные страдания, мои кости скрипели, я чувствовала невыносимую тошноту и такое смятение духа и ужас, которых человек не может пережить ни в минуту рождения, ни в минуту смерти. Потом муки стали быстро ослабевать, и я пришла в себя, точно после глубокого обморока. Я почувствовала невероятное умиротворение и равнодушие. Я будто стала много старше, будто бы враз устала от жизни и от глупых безнадежных стремлений, все окружающие предметы не вызывали у меня интереса. Спокойствие и отрешение
заполнили мой разум. Я вспомнила неприятную ссору с отцом и задумалась о ней. Мне хотелось вести себя достойно и следовать всем мыслимым и немыслимым правилам, лишь бы не привлекать отрицательного внимания и не становиться участницей глупых скандалов. Поддаться, отступить, промолчать ради этого нового восхитительного спокойствия – вот что подсказывали мне мои новые чувства. Вскоре я заметила, что мои руки стали более бледными и худыми – тогда я бросилась к зеркалу, откуда на меня посмотрело незнакомое мне лицо. Эта женщина была чем-то похожа на меня, но гораздо тоньше и моложе, а также имела вид куда более болезненный и слабый, как если бы она совсем не выходила на свежий воздух. Кроме того, черты её казались более мягкими, а кожа более нежной и гладкой, будто ей никогда в жизни не приходилось смеяться или хмуриться. Наиболее вероятной мне кажется теория, что эта часть моей натуры развивалась слабее, чем та мятежная часть, которую я нежно лелеяла в своей душе, регулярно подкармливая различными тайными занятиями и дерзкими словами.
Удивительнее всего же было то, что, взглянув на неё в зеркало, я не почувствовала ничего. Даже один взгляд на человека дарует нам какое-то чувство: кто-то с первого взгляда располагает к себе, кто-то пугает и отталкивает, кто-то завораживает предвкушением интересной беседы, а от кого-то всё внутри будто бы содрогается дурным предчувствием. Это же лицо не вызывало ничего, будто бы я смотрела на голую стену, но никак не на человеческие черты. И тем не менее это была я. Более того, это именно та я, которую вы уже привыкли знать и которую еще не раз увидите впоследствии. Думаю, вам придется поднапрячься, если сейчас вы попытались вспомнить моё настоящее лицо.
Мне предстояло продолжить опыт – убедиться, не потеряла ли я свой прежний облик и характер безвозвратно. Меня должен был бы охватить ужас из-за подобной перспективы, но мой новый образ мышления не дал мне даже расстроиться из-за этого. Тем не менее, моё равнодушие нисколько не помешало мне. Наоборот, смешав нужные ингредиенты, я не дрогнула, не замедлилась, даже зная о том, какую боль принесет перевоплощение. Я делала, что должно. Испытав новые муки, я снова приобрела вид и характер Гвенет Джекил.
Вы, наверное, думаете, что в тот момент появилась Эмилия Хайд? Увы, нет. В ту ночь появилась та, кого вы теперь знаете и впредь будете знать как Гвенет Джекил. Та ночь была решающей. Если бы на этот опасный эксперимент меня подтолкнуло не отчаяние, не желание избавления и спокойствия, моя жизнь могла бы сложиться по-другому. Смесь действовала безразлично: она не была ни божественным даром, ни адским искушением, она лишь освобождала то, что заперто в душе человека, то, что сильнее всего жаждало вырваться в ту самую секунду, когда человек делал первый глоток. Моё отчаяние породило мой новый образ, покорный и равнодушный, полностью пригодный к той жизни, что была мне уготована. Тем временем моё
первоначальное «я» осталось неизменным – всё той же смесью не сочетающихся элементов, настолько разных, что приносят страдание своим сосуществованием, и разделить эту смесь у меня уже не было никакой надежды.
Моё изобретение не стало спасением, словно морфий для безнадежного больного, оно могло лишь избавить от страданий, но не могло лечить. Между мной и долгожданным избавлением стояла лишь одна проблема – внешне моя вторая сущность пусть и была во многом схожа с моим первозданным видом, но всё же не была моей полной копией; её появление вызвало бы переполох в доме и недоумение в обществе. На следующий день я сказалась больной. Ссылаясь на сильнейшую мигрень две недели я провела в темноте и одиночестве своей комнаты, лишь изредка посещаемая слугами и врачом, который, впрочем, не находил причин недомогания.
Полностью осознавая, что пути назад не будет, прежде, чем объявить о своём полном выздоровлении, я выпила свой чудодейственный состав. Моё тело снова изменилось, я стала тоньше, ниже и бледнее. Я постаралась скрыть разницу лиц румянами, сурьмой и помадой, накинула на плечи теплую шаль, чтобы казаться крупнее. Как я и ожидала, никого не смутил мой новый облик. Худоба и слабость были признаны следствием изнурительной болезни, а обилие румян, приличное разве что на балу, – кокетливой попыткой юной леди скрыть своё недомогание. Даже волосы, что стали на несколько тонов темнее были приняты с большим равнодушием. Удивительно, сколь мало внимания уделяют люди друг другу! Лишь одна служанка, что до моей выдуманной болезни каждое утро помогала мне собрать волосы, в изумлении отпрянула от меня. Она тут же спохватилась и, извиняясь, рассказала, что по своей невнимательности верила, что глаза у меня были голубые словно небо, а потому была удивлена, обнаружив их серыми. Какая ирония, единственный внимательный и неравнодушный человек корит свою невнимательность!
В таком полузабытьи потянулись мои дни. В своем новом облике я стала звездой приемов и отрадой родителей. Я больше не обличала невежество возможных женихов, не спорила с гостями о науках и не пыталась никого заинтересовать своими теориями. Где нужно, я проявляла эрудицию, где нужно – остроумие, а в других случаях слушала и восторгалась. Я пленяла изяществом и грацией моего нового облика. Я блистала. Я получала от этого чистейшее удовольствие, не замутненное ни скукой, ни завистью, ни тягой к чему-то запретному.
Лишь оставшись в одиночестве, я становилась собой— мятежной душой, что жаждет знаний и свершений. Ссылаясь на слабость, я могла по много часов оставаться одна, посвящая себя наукам и экспериментам. Родители были очарованы моей покорностью и учтивостью, а потому, пусть и переживали о моем здоровье, позволяли мне это затворничество. Они привыкли, что в дни, вечера которых были свободны от выездов
или приглашения гостей, я сразу же после обеда отправлялась к себе, не выходя к ужину и не открывая дверей своих покоев до самого утра.
День, когда появилась Эмилия Хайд, более ничем примечателен не был. Мне понадобились некоторые элементы для моих изысканий, и я тайно покинула дом, как проделывала это уже множество раз. Но по возвращении я встретила служанку, что крайне удивилась и даже испугалась, увидев незнакомку. Мне пришлось отговориться тем, что меня впустила лично Гвенет Джекил, которой я прихожусь дражайшей подругой, состоящей с ней в переписке, и которую я, встревоженная вестью о тяжелой болезни, поспешила навестить, как только вернулась из длительной заграничной поездки. Я предполагала, что однажды подобная неприятность может произойти, а потому всегда носила при себе письмо, написанное моим почерком и наполненное дружескими обращениями.
Так родилась Эмилия Хайд. Желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стала иногда выходить в природном своем образе к родственникам и слугам, сделав свои появления привычным и незаметным событием. Очень быстро я поняла, что Эмилия стала мне надежным щитом. Если раньше любое моё дерзкое слово стало бы известно отцу, то теперь я могла даже прилюдно назвать ослом видного академика, и никто никогда бы не смог обвинить в этом поступке Гвенет Джекил. Наоборот, её трогательная дружба показалась бы всем вокруг тем более благородной, если бы её целью общественность признала спасение и наставление на путь благодетели заблудшей подруги.
После этого ничто уже не могло меня остановить. Я посещала открытые лекции и дискутировала с учеными. Я опубликовала несколько десятков статей и яростно отстаивала свои тезисы. Мечтая о лаврах новой Лауры Басси, я начала претендовать на членство в Академии наук. Постепенно я обратила на себя внимание нескольких высокопоставленных особ, которых чрезвычайно позабавили и развлекли мои примечания и возражения, и которые готовы были оказывать поддержку моей научной работе. Как у ставшей моим идеалом Басси было благословение кардинала Просперо Ламбертини, так у меня была благосклонность этих господ. И, лишь заручившись этой поддержкой, я поняла, чего не хватало мне все эти годы – опоры и веры. Да, у меня были рекомендательные письма от «моей дорогой подруги» и нескольких очарованных её обходительностью учёных господ, открывшие мне двери лекториев и кабинетов, но я всё время была одна, питаемая лишь собственной мечтой и верой. У меня не было брата, увлеченного наукой не меньше моего, как у Каролины Гершель, не было мужа, что верил бы в мои таланты так же, как я в его, как у Марии Польз. О том, что и вовсе существовали такие ученые дамы, как Басси, Гершель и Польз, я узнала, лишь став Эмилией Хайд, уже отравленная смесью, что затуманивала мою душу.
Так я завоевала славу скандальной, но чрезвычайно сведущей в естественных науках особы, с которой стремились встретиться лично или вступить в переписку многие светлые умы. Почти все деньги, что я выручала статьями и лекциями, уходили на аренду небольшой, но чистой и светлой комнаты в торговой части города – ведь не могла же я, в самом деле, дать адрес дома Джекилов своим многочисленным адресантам. Поначалу я боялась, что кто-то сможет распознать мой почерк, и это приведет к тому, что тайна моя выйдет наружу. Позже волнения мои унялись; пусть вся моя жизнь и была обманом, но в ней я не делала ничего, что могло бы заслужить осуждение, наоборот, она была наполнена торжеством мысли.
Только вдумайтесь: меня даже не существовало, а мои возражения порождали открытия, и мои рецензии меняли судьбы людей. И после этого я приходила домой, где чувства мои засыпали, а на место им приходило тихое и покорное судьбе существо, что теперь звалось Гвенет Джекил. Я не буду описывать вам все радости и успехи Эмилии Хайд, о них вы можете узнать у любого, кто хоть сколько-то связан с поиском знаний. Вместо этого я расскажу вам о том, какое наказание настигло меня за моё малодушие и тщеславие. Ах, если бы мне хватило сил и смелости взбунтоваться против воли семьи и общества! Смогла бы я достичь хоть десятой доли того, что достигла Эмилия Хайд? Я отдала все выматывающие, бессмысленные обязанности своему второму я, что избавило меня и от чувства беспомощности, и от той чудовищной усталости, что вызывает лишь безделье, и от гадливого послевкусия, что оставляют лицемерные вежливые беседы, которые вынуждена поддерживать любая молодая леди моего круга – и лишь так моя душа смогла скопить силы, так необходимые, чтобы защищать свою правоту. Но увы, я сотворила себе убежище, и это убежище и стало моей погибелью.
Это случилось в день, когда до меня дошёл слух из надежного источника, что Академия почти готова предложить мне официальное членство, но не все довольны таким смелым решением, а потому придется подождать несколько месяцев, возможно, год, чтобы они окончательно решились. Увы, этого времени у меня уже не было, но тогда я об этом и не подозревала. Восторженная, я легла спать, чтобы с утра обнаружить пугающее явление. Проснулась я со странным ощущением, причины которого в первые секунды после пробуждения определить не смогла. Лишь когда я взглянула на собственные руки, мне стало понятно, как сильно это утро отличается ото всех, что были до него. Я явственно увидела болезненно тонкую, почти белую ладонь Гвенет Джекил там, где должна была быть тронутая легким загаром широковатая рука Эмилии Хайд. Я должна была почувствовать страх, но не почувствовала ничего. Ущербность чувств моего искусственного я, вероятно, спасла меня от разоблачения. Не знаю, смогла бы я сдержаться от крика отчаяния, если бы была в полном осознании ситуации. Размеренно я подошла к зеркалу, зная, что там увижу – бледное апатичное лицо. Я легла спать Эмилией Хайд, а проснулась той, кого называли Гвенет Джекил.
За утренним туалетом я отстранено размышляла о том, что положение моё было не так бедственно, как могло бы быть. Превращение произошло ночью и привело меня в форму, привычную для всех, кто мог бы меня увидеть. В куда более затруднительной ситуации я бы оказалась, случись подобная аномалия на глазах у всего ученого сообщества. В подобных раздумьях я вышла к завтраку и провела свой обычный день: помогла матери, скрасила ланч беседой с отцом, написала письма нескольким господам, что оказывали мне внимание на недавнем вечере, и после обеда, строго по расписанию, удалилась в свою комнату, где приняла смесь. Вместе с моим лицом и чувствами ко мне пришла паника. Я лихорадочно раздумывала о природе утреннего явления и о том, чем оно может мне грозить. Чем могла я объяснить этот случай? Я содрогнулась от ужаса, осознав, что больше не контролирую превращения в полной мере.
Серьезнее, чем когда бы то ни было, я задумалась о возможных превратностях моего двойственного существования. В итоге я пришла к выводу, что та часть моего «я», которая могла обособляться, очень часто существовала в своём отдельном состоянии, а потому сильно развилась. Как-то раз я слышала разговоры слуг о том, что наконец-то молодая госпожа начинает поправляться после той давней таинственной болезни, что полностью её истощила. В тот момент я не придала значения этой сплетне, но злополучное утро заставило меня вновь вспомнить этот разговор. Оболочка моей отделённой части крепла. Осознание этого напугало меня, но в тот день мне предстояло ещё больше страшных открытий. Я также вспомнила, что мой напиток не всегда действовал одинаково. Мне не раз приходилось удваивать дозу, а однажды даже утроить его количество, подвергнув свои жизнь и здоровье опасности. Если в самом начале мне требовались большие усилия, чтобы сбросить с себя оболочку своего истинного облика, то теперь мне стало гораздо труднее покидать новое тело, возвращая себе первоначальный облик. Все эти наблюдения ясно указывали на то, что я постепенно утрачивала своё прирожденное «я». Так впервые я испугалась того, что могу потерять возможность менять облик по своему желанию, и навсегда окажусь заперта в облике, лишенном высоких стремлений, бушующих чувств и самой моей сути.