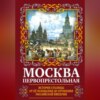Kitabı oku: «Русский Гамлет. Трагическая история Павла I», sayfa 4
Военные баталии и придворные интриги
Отчуждение императрицы от наследника престола становилось вопиющим. Не видя в сыне ничего, похожего на себя, и понимая, что цесаревич не станет продолжателем ее дел, Екатерина увлеклась изучением законов о престолонаследии, намереваясь объявить наследником престола, минуя сына, внука Александра. Павел Петрович, в свою очередь, вместе с Марией Федоровной подписал тайный акт о восстановлении старинных законов престолонаследия, отмененных Петром I. В нем цесаревич особо указал, что не жена и никто другой, а только старший сын царствующего монарха может занять престол после смерти самодержца. Цесаревич пожелал, чтобы закон, а не случай, как это было на протяжении всего XVIII века, распоряжался передачей царской власти, и хотел избежать в дальнейшем дворцовых переворотов и борьбы за верховную власть. На этот тайный документ, конечно, повлияла жалость Павла Петровича к себе самому. Ведь он мечтал о будущей деятельность на благо отечества в качестве самодержца, но не был уверен, что мать не назначит себе другого преемника. Когда каждый день с опаской думаешь, что тебя вот-вот лишат даже мечты о царском престоле, невольно начинаешь придумывать способы, как избежать этой несправедливости.15
В конце концов, великий князь утомил мать просьбами отправить его на войну, и она согласилась. Только, конечно, без Марии Федоровны. Назначили даже день отъезда – 7 февраля 1788 года. Но вскоре последовал новый отказ, так как Екатерина узнала о новой беременности невестки. Она заявила, что хоть до родов осталось еще полгода, но муж не имеет права оставлять жену в таком положении.
Скорее всего, императрица не столько заботилась о Марии Федоровне, сколько боялась популярности, какую могут создать в армии сыну провинциальные воинские части. Ей же он подходил более в обычной роли гатчинского затворника.
Павлу Петровичу пришлось подчиниться воли матери, хотя он и не преминул указать в письме о своем несогласии с ее решением: «Дражайшая матушка! С прискорбием отношусь к положительному повелению вашего величества, препятствующему моему отъезду, несмотря на все мои доводы. Трудно мне будет полагаться на неопределенную надежду, вами мне подаваемую в таком деле, которое не должен считать прихотью с моей стороны ввиду собственного же вашего одобрения и согласия. Будучи к тому же уполномочен в нем данным мне примером моих современников и равных мне. После всего совершившегося я должен покориться воле вашего величества, но никогда я не буду в состоянии заглушить чувств, меня одушевляющих, в которых мы не властны, ибо эти чувства основываются на чести и убеждении».
Когда 10 марта 1788 года Мария Федоровна разрешилась от бремени дочерью Екатериной, было устранено последнее препятствие отбытия великого князя в действующую армию. «Он собирается к вам в армию, – сообщает Екатерина Г.А. Потемкину, – на что я согласилась, и думает отселе выехать двенадцатого июня, то есть после шести недель через день, буде шведские дела его не задержат. Буде же полоумный король шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь».
Предчувствия императрицы оказались верными – 30 июня началась война со Швецией. Вот только Павел Петрович не остался в Петербурге, а направился к русскому войску в Финляндию, надеясь принять участие в боях. Возглавляя кирасирский полк, он, наконец, должен был бы увидеть, чем отличается настоящая война от гатчинских маневров. В походе цесаревича сопровождали преданный друг Ф.Ф. Вадковский, командир гатчинского гарнизона барон Штейнвер, капитан Кушелев, лейб-медик Блок и камердинер И.П. Кутайсов.
Приезд в армию начался со ссоры Павла Петровича с главнокомандующим графом В.П. Мусиным-Пушкиным, где роль раздражителя сыграл барон Штейнвер, недовольный отсутствием в русских войсках прусских обычаев.
Сухопутные войска пока не вступали в бой, и великий князь мог упражняться лишь в теоретических умозаключениях, как надо вести военную баталию и как надо переделать русскую армию.
Тем временем победа сопутствовала русскому флоту – 6 июля 1788 года адмирал Грейг в Гогландском сражении разбил шведский флот. Но русские сухопутные войска из-за бездарности своих полководцев не сумели воспользоваться благоприятными обстоятельствами и лишь вытеснили шведов из Финляндии. Никаких крупных боевых действий при этом не произошло, и великий князь, рвавшийся в бой, только однажды оказался невдалеке от перестрелки. Так и не получив военного опыта, если не считать опытом то, что русские генералы показали свое неумение воевать, цесаревич 18 сентября 1788 года вернулся в Петербург.
Куда более славно шли дела на юге против средневековой турецкой армии. Потемкин 6 декабря 1788 года штурмом взял крепость Очаков и продолжал ковать славу русскому оружию. Весь следующий год гром войны не утихал ни на юге, ни на севере. Павел Петрович стал проситься на войну со вновь набиравшими силу шведами. Императрица ответила откровенной насмешкой над сыном: «Вот, мой дорогой сын, мнение, которого вы спрашиваете относительно предстоящей кампании. Она будет оборонительной малой войной и еще скучнее прошлогодней. Вот почему по совести могу вам только посоветовать, чтобы вы вместо того, чтобы вызывать слезы и печаль, разделяли бы в сердце вашей дорогой и прекрасной семьи радость от успехов, которыми Всемогущему, как я надеюсь, угодно будет благословить наше правое дело. Прощайте! Обнимаю вас от всего сердца, тронутая вашим образом действия».
Россия все более нищала под бременем войн, что, впрочем, не сказывалось на блеске императорского двора. Славные победы царствования Екатерины стали уходить в тень на фоне многочисленных дипломатических просчетов. Скончался верный друг союзник Екатерины Иосиф II, и его брат Леопольд, вступив на австрийский трон, пренебрег дружбой с Россией. Пруссия не на шутку угрожала войной. Даже шведы оправились и нанесли русским серьезное поражение, после чего пришлось заключить с ними мир, не получив никакого возмещения за трехлетнюю победоносную войну, унесшую множество русских жизней и капиталов.
Надеяться приходилось только на юг. Суворов 11 декабря 1790 года штурмом овладел турецкой крепостью Измаил. Но и здесь война не собиралась утихать, и, значит, требовала пополнения в солдатах, отправляемых на убой, и деньгах. Империя требовала жертв, и расплачиваться своими жизнями, в основном, приходилось не дворянству, хотя оно в старое время и было создано специально для войны и охраны отечественных рубежей, а русскому мужику, который всегда хотел мирно трудиться, для чего нанял в свое время защищать себя и свою семью от иноземцев основателя знаменитой дворянской династии Рюрика.
Последующие события наносили один за другим удары по императрице, привыкшей царствовать легко, заниматься перепиской с французскими просветителями, взвалив скучные русские дела на Потемкина, его соратников и даже на его врагов, вроде Паниных. Теперь же, когда сметливого светлейшего князя уже не было в живых, императрица не могла решить, что делать с поляками, провозгласившими конституцию и решившими жить самостийно, без указки России.
Было от чего прийти в уныние Екатерине и ее сановникам, из немногочисленного числа смышленых и любящих Россию. К сожалению, императрица, старея, стала окружать себя придворными почти исключительно из числа, кто был поглупее, но зато более покладист. Но Россия, несмотря ни на что, оставалась слишком обширным и выносливым государством. Ее невозможно было разрушить ни бездарным управлением из Петербурга (на местах хоть немного, но подправляли глупые распоряжения верховников), ни непомерными поборами с крестьян (смекалистый мужик пойдет на обман, но не даст в обиду свою семью), ни ненавистью сопредельных государств (те поняли, что воевать могут на своих или приграничных территориях, а в глубине России просто потонут в необъятных пространствах).
С турками, в конце концов, подписали в Яссах 29 декабря 1791 года никчемный мир, и все усилия бросили на вечно досаждавшую соседку Польшу. После разгромов и разделов 1793–1795 годов Польша перестала существовать. Но почему-то до сих пор поляки винят в этом полководца Суворова, выполнявшего лишь долг офицера, а не российскую самодержицу Екатерину, приказавшую уничтожить Польшу. К сожалению, поляки редко вспоминают и то, что сторонником их независимости всегда оставался великий князь Павел Петрович.
Цесаревич все более уединялся в Павловском и Гатчине. Он погрузился в мелочные заботы о своем миниатюрном войске, постепенно доведя его численность до двух с лишним тысяч человек. «Тактика прусская и покрой военной одежды составляли душу сего воинства – замечает современник. – Служба вся полагалась в присаленой голове сколько можно больше, коротенькой трости, непомерной величины шляпе, натянутых сапогах выше колен и перчатках, закрывающих локти. Въезжая в Гатчину, казалось, въезжаешь в прусское владение. При разводах его высочество наблюдал точно тот же порядок, какой наблюдался в Потсдаме во времена Фридриха II. Здесь можно было заметить повторение некоторых анекдотов сего прусского короля с некоторыми прибавлениями, которые сему государю никогда бы в мысль не вошли. Например, Фридрих II во время Семилетней войны одному из полков в наказание оказанной им робости велел отпороть тесьму с их шляп. Подражатель гатчинский одному из своих батальонов за неточное выполнение его воли велел сорвать петлицы с их рукавов и провести, в пример другим, через кухню в их жилища. Запальчивость наследника сказывалась при всех учениях. За ничто офицеров сажали под стражу, лишали чинов, помещая в рядовые, и потом толикая же малость приводила их опять в милость. Всякий день можно было наслышаться новых анекдотов в Петербурге о дворе гатчинском».
Императрица, зная восторженный и незлопамятный характер сына, не опасалась, что он со своими пруссаками решится на государственный переворот. К тому же граф Н.И. Салтыков уверял, что появись хоть искорка преступного замысла, императрице тотчас же донесут. Получалось, что даже выгодно иметь на отдаленном расстоянии сие потешное войско – пусть вельможи удостоверятся в глупости наследника престола. Офицеры же гвардейских полков, почти все из знатных фамилий, с презрением смотрели на безродных гатчинцев и, насмехаясь над их командиром Павлом Петровичем, еще больше превозносили ум и милосердие матушки императрицы.
Среди доморощенных офицеров Павел Петрович особенно отличал за строевую выправку барона Штейнвера, о котором говорил: «Этот будет у меня таков, каким был Лефорт у Петра Великого». Появился и новый любимчик – худородный дворянин Алексей Андреевич Аракчеев, неутомимый в строевой муштре и заучивании артиллерийских артикулов. Портрет последнего хлесткими штрихами набросал Н.А. Саблуков: «По наружности он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист, в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучать анатомию жил и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства».

Венчание на царство Екатерины II
Для военных учений в Павловском соорудили небольшую крепость, а в гатчинские пруды запустили флотилию мелких суденышек. Павла Петрович окружали не только мелкие суда, но и мелкие своекорыстные люди.
Один из любимцев великого князя граф Ростопчин писал российскому послу в Лондоне графу Воронцову, что ничего не может быть более противно, чем благосклонность Павла Петровича. По его словам, великий князь сидит в Павловске с головой, набитой химерами, окруженный людьми, самый честный из которых заслуживает виселицы.
По сравнению с Зимним дворцом и Царским Селом, где все дышало роскошью, весельем и флиртом, в великокняжеских поместьях жизнь протекала суровая и однообразная. Уныние уже наступало при въезде в Гатчину, где путника встречал прусский шлагбаум, окрашенный полосами в черный, красный и белый цвета, и одинокий стражник, наряженный в допотопный прусский мундир. Далее среди болот и лесов виднелись невзрачные казармы и крестьянские поля. Ни тебе нарядных дам, сидящих в античных мраморных ротондах, ни развеселого театра, ни диковинного зверинца. Скромная обстановка Гатчинского дворца вызывала презрительную улыбку екатерининских вельмож, каждый из которых жил куда в большей роскоши.
Но окрестные крестьяне были довольны своим господином. Он устроил для них школу, больницу, содержал на свой счет местное духовенство, ссужал деньгами бедных, содействовал возникновению стеклянного и фарфорового заводов, суконной фабрики, заступался за местное население в судах.
Павла Петровича, в отличие от матери, можно назвать идеальным помещиком. Другое дело, полководцем он оказался никудышным, что подтверждало взлелеянное им гатчинское войско. Но оно и создавалось не умом цесаревича, а его взбалмошными чувствами, как молчаливый протест против военной доктрины Екатерины. Увлечение прусским покроем одежды – это не такое уж страшное зло по сравнению с разбазариванием государственных денег екатерининскими вельможами. Но плохо другое – Павел Петрович все более становился затворником. Он вынашивал мысли, как следует царствовать не в делах или беседах с опытными государственными мужами, а в полном одиночестве, советуясь лишь со своими многочисленными обидами на императорский двор и кодексом рыцарской чести, усвоенным им по трогательным историческим повествованиям.
«Донесу вам, – пишет князю А.Б. Куракину из Гатчины С.И. Плещеев, – что образ жизни нашей неподвижен и непременен, как столб. Верховный выезд, батальонное учение, вахтпарад, прогулка пешая и в повозках, вечерняя посиделка составляют ежедневное наше упражнение. Гостей никого не принимаем, и из круга своего не выходим никогда. Что творится в мире, никто из нас ничего не знает. Когда же что и сведаем, то не всегда верно и опосля всех… Одним словом, мы посвятили себя строгому уединению и довольно оттого все одичали».
Появилась среди немногочисленных друзей Павла Петровича и женщина – Екатерина Ивановна Нелидова (1757–1839), попавшая в фавор в 1791 году. Благодаря прирожденному остроумию и умению вести серьезную откровенную беседу, она завладела душой наследника, между ними установилось нечто вроде платонической любви. Ее стали называть нравственным другом цесаревича. Мария Федоровна поначалу к ней не ревновала. Нелидова, хоть безупречно танцевала и обладала артистическим талантом, но была на редкость некрасива: маленькие подслеповатые глаза, рот до ушей, длинная талия, короткие и кривые ноги. Павла Петровича это не остановило, он, как дитя, привязался к нравственному другу. Начались семейные скандалы, и только сама Нелидова восстановила мир в великокняжеской семье, удалясь в 1793 году в Смольный монастырь, где некогда воспитывалась. Тем не менее, по просьбе цесаревича она время от времени появлялась в Гатчине и скрашивала в беседах его затворническую жизнь.
Единственное, за что уважало окружение императрицы великокняжескую чету – это плодовитость. В отличие от своих предшественников из Дома Романовых, как, впрочем, и царей Дома Рюриковичей, Павел Петрович с Марией Федоровной подарили миру девятерых здоровых детей: Александр (1777–1825), Константин (1779–1831), Александра (1783–1801), Елена (1784–1803), Мария (1786–1859), Екатерина (1788–1818), Анна (1795–1865), Николай (1796–1855) и Михаил (1798–1849). Лишь дочь Ольга (1792–1795) скончалась в младенчестве.
Но дети жили отдельно от родителей, у бабушки. Александр и Константин лишь раз в неделю приезжали к отцу, чтобы покомандовать гатчинскими батальонами. Положение изменилось в 1795 году, когда им, полюбившим военные маневры и парады, разрешили в летнее время посещать Гатчину четыре раза в неделю.
Старший сын Александр, женившийся в 1793 году на Елизавете (принцессе Луизе-Марие-Августе Баденской), из сына все более превращался в соперника. Екатерина решила осуществить заветную мечту и назначить своим преемником, минуя сына, послушного старшего внука. Шведский посол граф Стединг 29 ноября 1793 года отправляет в Стокгольм шифрованную депешу, в которой сообщает, что Павел Петрович продолжает вести себя очень плохо и с каждым днем теряет во мнении не только высшего света, но и народа. Он проникся ревнивой ненавистью к своему старшему сыну, на которого действительно обращены все взгляды, и которому императрица оказывает знаки исключительного расположения.
В 1794 году Екатерина объявила Государственному совету о намерении «устранить сына своего Павла от престола, ссылаясь на его нрав и неспособность». Но самодержица неожиданно встретило хотя и робкое, но противодействие, ведь люди привыкли за тридцать с лишним лет видеть единственным наследником Павла Петровича. Рассудив, что проживет еще долго, императрица не стала пороть горячку. Лучше неторопливо, но неуклонно идти к намеченной цели, постепенно подготавливая России к мысли о новом цесаревиче.
Для начала она переговорила с воспитателем старшего внука Лагарпом. Но тот наотрез отказался от попытки внушить своему ученику мысль о его скором короновании, и тотчас был отстранен от службы. Перед отъездом в Швейцарию опальный Лагарп 27 апреля 1795 года посетил Павла Петровича и посоветовал ему поближе сойтись со старшими сыновьями, чтобы иметь в их лице помощников, а не соперников.
Теперь Екатерина попробовала действовать через невестку и, в отсутствии сына, предложила ей уговорить мужа отречься от престола в пользу Александра и скрепить своей подписью готовящийся акт. Мария Федоровна с негодованием отвергла нечестивую сделку.
Несмотря на ряд неудачных попыток, Екатерина не отчаивалась и подготовила особое завещание о передачи императорской власти, в случае своей смерти, внуку, минуя сына. Вот только все откладывала его обнародовать, так как не любила скандальных сцен, которые обязательно должны были последовать после подобного решительного и необычного шага. К тому же, на нее навалились и другие заботы.
После бракосочетания 15 февраля 1796 года великого князя Константина Павловича с Анной Федоровной, урожденной принцессой Саксен-Кобургской, императрица обратила свой взор на внучек. «Теперь у меня женихов больше нет, – пишет она Гримму, – но зато остается пять девиц, из которых младшей только год, но старшей пора замуж. Женихов им придется поискать днем с фонарем. Безобразных мы исключим, дураков тоже. Бедность же не порок. Но внутреннее содержание должно соответствовать очень красивой наружности. Если попадется такой товар на рынке, сообщайте мне о находке».
В августе 1796 года в Петербург прибыл молодой шведский король Густав IV для переговоров о своем браке с дочерью Павла Петровича великой княжной Александрой. Шведский король и русская княжна поладили друг с другом, часто проводили время вместе. Казалось, все сладилось, но российская императрица-бабушка упорствовала, не желая исключать из брачного договора статью о сохранении внучкой православия. В назначенный для бракосочетания час Густав IV из-за этой злополучной статьи не явился в Зимний дворец, отчего у оскорбленной Екатерины приключился первый легкий приступ паралича. Оправившись от болезни, она стала все чаще думать, что настала пора обнародовать свое завещание о лишении сына прав на престол, о чем поведала и внуку Александру Павловичу, и ближайшим сановникам. Но исполнить свою давнюю мечту не успела…
В воскресенье, 2 ноября 1796 года, всероссийская самодержица весело пообедала с внуками и множеством придворных, но в последующие два дня не выходила из своих внутренних апартаментов, чувствуя легкое недомогание. В среду утром…
Кончина императрицы
Случилось это вдруг и до обидного не по-царски. Пятого ноября 1796 года шестидесятисемилетняя русская императрица Екатерина II поднялась с постели в семь утра – немного позже, чем обычно. Погрелась у камина, сварила себе кофе и, сидя на краешке постели, полчашечки через силу проглотила. Тянуло прилечь, поддаться лени, опустить тяжелую нынче голову на мягкую подушку. Но императрица испугалась, что в последние дни ее часто клонит на боковую, а это верный признак болезни (мысль о старости она гнала прочь), и резко поднялась, заставила себя приободриться, притворилась веселою. Тщательно причесалась, натерла лицо румянцем и выбрала платье: длинное, сбегающее с груди к ногам, скрадывающее ее полноту и короткие ноги. Но прежде чем облачиться в утренний наряд, Екатерина в легком пеньюаре пошла за ширмы, в отхожее место. Вдруг ощутила под сердцем легкий толчок, глаза потухли, и всероссийская самодержица рухнула наземь рядом с нужником. Тупо зашумело в голове, Екатерина, собравшись с силами, кликнула Захара Зотова и попыталась подняться на ноги, чтобы ни камердинер, ни примчавшиеся ему на помощь гвардейцы не застали ее в срамном виде.
Но встать почему-то не удавалось, почему-то не суетились вокруг гвардейцы, и даже Захар не шел на зов.
Страх все крепче сжимал сердце. Предали? Бросили? Когда стих первый приступ ужаса, императрица, наконец, догадалась, что едва шевелит губами, оттого и нет переполоха. Там, за дверями спальни, – Захар, лакеи, вельможи, гвардейцы. Все ждут звонка ее колокольчика и гадают, кого она первого одарит беседой в любимый утренний час. Все надеются… И ни один не может догадаться, как больно и страшно ей, как нужны сейчас рядом люди!
Екатерина вошла в гнев на своих подданных, не чувствующих, в каком она оказалась положении. Но скоро кричащая жалость к себе притупила и боль, и злобу.
«Я одна, совсем одна. За все тридцать четыре года царствования не было дня, да что дня – минуты, чтобы я не чувствовала вокруг людей, готовых угождать мне, ищущих повода прислужить. А теперь – никого. Как же так? Где их долг? присяга? честь? Я же императрица. Мне надо помочь. Надо помочь России… Здесь холодно… Твердо… Я могу умереть. Но тогда со мной умрет и Россия. Мне обязаны помочь…»
От страха одиночества и надвигающейся смерти тело государыни зашлось в судороге, по щеке поползла слеза, пальцы мелко задрожали на холодном каменном полу.
Час спустя дворцового истопника, вошедшего подложить дров в камин государыни, испугал глухой животный хрип, и он замер с охапкой поленьев в руках. Тут-то, в просвете между ширм, на полу он увидел пухлую, унизанную драгоценными перстнями руку и закричал. Дверь распахнулась, вбежал растерянный Захар Зотов, а за ним, спешно обнажая сабли, ворвались четверо караульных гвардейцев.
Захар, взглянув на истопника, сразу понял, почему матушка государыня так долго его не звала, и, приказав одному из солдат встать в дверях, с тремя остальными бережно поднял тело. Императрица оказалась до удивления тяжелая, и они решили не вздымать ее на постель, а положить на пол посередине спальни, подсунув под тело сафьяновый матрас.
Управившись, Захар послал двух гвардейцев за Платоном Зубовым и лекарями, строжайше наказав держать по дороге язык за зубами. Он все еще надеялся, что матушка государыня поспит часок и встанет, как ни в чем не бывало, а значит, незачем баламутить народ. Но лишь такой доверчивый и любящий слуга, как Захар Зотов, мог надеяться на выздоровление: грудь и живот государыни беспрестанно, судорожно поднимались и опускались – жизнь стремительно покидала тело.
– Матушка, голубушка, заступница, хоть словечко вымолви, – плакал Захар, бережно прикасаясь губами к бледной царской ладони.
Но как он не был растревожен приключившейся бедой, все-таки заметил, что самый крупный камень с правой руки украден – белела свежая отметина от кольца на безвольном указательном пальце могущественной государыни. И это воровство, совершенное, скорее всего, одним из гвардейцев, переносившим тело, сразу же убедило Захара – императрица умрет.
Светлейший князь Платон Зубов появился из дверей, соединявших через галерею спальню императрицы с его домом. В халате нараспашку, с глазами, полными отчаянья и надежды, он бросился к постели Екатерины и увидел ее на полу, лишь споткнувшись о край матраса.
– Матушка, Катерина, матушка! – истерично запричитал он, опускаясь коленями на матрас.
Перед ним покоилась родная, до боли родная женщина: высокий белый лоб, доброе круглое лицо с кокетливым подбородком и властным ртом, пышные нарумяненные щеки. Нет, она обязана открыть глаза, припасть к его груди и сказать ласковое слово своему сыночку.
– Матушка, Катерина, государыня! Проснись!
Зубов почувствовал, что его тянут за край шлафрока, и зло обернулся. Захар почтительно поклонился – это он тянул – и кивнул в сторону подоспевшего лакея с мундиром князя:
– Не изволите ли одеться, ваше сиятельство? С минуты на минуту ожидается приезд докторов и прочих господ.
– Зачем?.. Кто посмел?.. Гнать всех!
Платон бессмысленно посмотрел по сторонам: на умирающую, Захара, суетящуюся со скорбными лицами прислугу и понял, что ему вновь, как и в начале своей головокружительной карьеры, надо искать дружбы, поддержки у всякого, будь он лакеем или министром, или, на худой конец, хотя бы не возбуждать к себе злобы. Он смело сел на уже прибранную постель императрицы, стянул с себя сапоги и приказал:
– Подавай.
Захар подозвал сослуживцев, Ивана Тюльпина и Ивана Чернова, приказал им помочь князю, а про себя отметил, что светлейший и гибок, и мускулист, и красен лицом, а вот росточком не удался.
Скоро стали прибывать доктора. Лейб-медик Иван Самойлович Рожерсон, а за ним и другие лекаря порешили первым делом отворить кровь. Зубов наотрез отказал им в этом, но когда Рожерсон без обычного почтения, свысока бросил ему, что иначе императрица не дотянет и до вечера, отступился.
– Делайте, что хотите, лишь бы жива осталась, – угрюмо согласился Платон. Хотел добавить, что, мол, если не сбережете государыню – голов вам не сносить, но смолчал, решил не плодить врагов.
Екатерине отворили кровь – она оказалась черной и густой, текла медленно и недолго. Тогда, посовещавшись, всыпали в рот рвотных порошков, а к ногам приложили шпанские мухи. Вскоре лекарства подействовали, императрица открыла глаза, пошевелила ногой и легонечко сжала руку горничной, вытиравшей стекавшую изо рта государыни жидкость червонного цвета.
– Никто не подходит, не тревожит, не заговаривает с нею, – по-французски приказал Рожерсон, и его поняли даже те, кто мог изъясняться лишь по-русски.
– Будет жить? – заискивающе глядя в глаза придворного лекаря, спросил Платон.
– Может, будет, но вернее, что не будет. Апоплексическим ударом поражена голова. Через час-другой мы будем знать точно. Будьте готовы к трагическому исходу. А сейчас – полный покой. И еще раз отворить кровь.
Рожерсон слукавил, он был уверен, что Екатерине не дотянуть до следующего утра.
Лекаря принялись за дело. Захар Зотов вышел объявить о легком недомогании императрицы придворным, уже пронюхавшим про несчастье и нахлынувшим во дворец со всего Петербурга. Они толпились в просторных залах, ожидая с понурыми, но настороженными лицами слухов, сплетен, домыслов. Лишь несколько сановников посчитали возможным для себя войти в спальный покой императрицы и воочию наблюдать агонию великой самодержицы.
Возле императрицы, в головах, сидел, старчески сгорбившись, поседелый, со шрамом на щеке, полученным в молодости в пьяной драке, граф Алексей Орлов-Чесменский. На нем был генеральский мундир без шитья, поверх красовались орденские ленты Андрея Первозванного и Георгия I степени. На днях Орлов приехал из Москвы, где долгие годы жил в праздности и скуке, предпочитая людям охотничьих собак и рысаков со своего конного завода, множа дворцы, деньги, крепостных. Граф собирался не сегодня завтра, по установившемуся зимнику, уехать на житье за границу, развеять на европейском ветру русскую унылость.
Давно уже он был не у дел, ибо орловская гордыня не позволяла признать первенства ни могучего Потемкина Таврического, ни красавца Ланского, ни дуралеюшки Зубова. Теперь бы радоваться – кончилось, нацарствовался Платошка, будет отчет держать перед новым императором. Но Орлов понимал, что его самого ждет еще большая опала. Павел наверняка припомнит ночь с 27 на 28 июня 1762 года, когда император Петр III, по обыкновению, пьянствовал с прусскими любезниками в Ораниенбаумском замке, а сержант гвардии Алексей Орлов примчался в Петергоф, поднял с постели Екатерину и привез в Петербург – царствовать.
Ее супруга – уже отрекшегося от престола – несколькими днями позже Алексей Орлов задушил за толстыми стенами Ропши, без помощи слуг, дабы ни одна живая душа не узнала истины. Екатерина поспешила известить народ о своем вдовстве: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III впал в прежестокую колику. Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего дня получили мы другое, что он волею всевышнего Бога скончался».
Поползли слухи, и только глупец верил «прежестокой колике» манифеста…
Павел, конечно же, захочет поквитаться за отца, понимал Орлов. Ему, воспитанному, как и Петр III, по прусскому образцу, не дано понять, что тогда русские дворяне хотели видеть на троне вместо пьяной немецкой обезьяны добродетель, уважающую российские обычаи и православную церковь, хотели, чтобы страною управлял не голштинский сброд, а столбовые дворяне.
У графа начал дергаться правый глаз. Он еще больше сгорбился и тупо следил за агонией великой Екатерины. Возможно ли без нее представить Россию? Кто теперь восстановит Грецию и освободит Египет из-под власти Порты? Кто сумеет непринужденно, с блеском и с царской величавостью принимать у себя европейских государей? Кто сможет лучше Екатерины щедрой рукой и мудрым словом одаривать верных подданных? Никто во веки вечные!
Алексею Орлову впервые вдруг пришло на ум, что и он смертен, и его когда-нибудь одолеет болезнь. Скорбь об умирающей государыне заменилась ощущением скорого конца своей земной жизни, конца всей России…
Перед камином, тупо глядя на игру пламени, стоял граф Александр Самойлов. Тридцать пять лет назад он вступил на службу рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк. Но судьба уготовила ему быть не придворным – армейским офицером. Граф воевал против турок, судил Пугачева, покорял Крым, брал Измаил. И надо же было случиться, что, когда привез четыре года назад в Петербург мирный договор с турками, его не отпустили назад, к родной армии, а назначили генерал-прокурором и вдобавок государственным казначеем. Александр Николаевич понимал, что обязан своим возвышением светлой памяти дяди – светлейшего князя Григория Потемкина Таврического. Со временем Самойлов почувствовал, что не годится для придворной службы. Во-первых, потому что ощущал себя здесь новичком, недоучкой, во-вторых, потому что догадывался, что его честным именем прикрывают довольно сомнительные махинации, идущие во вред России. Граф уже решил, что попросит императора Павла вернуть его в армию. Можно в Персию, где сейчас идет война, можно в Швецию, где, наверное, скоро будет. На худой конец, можно и в Польшу, где вечно какие-никакие, а заварухи есть. Хоть куда, лишь бы чувствовать, что ты честен и при деле. Тогда и умереть не боязно. Сгореть, как сухие полешки…
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.