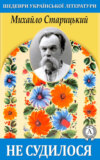Kitabı oku: «Молодость Мазепы», sayfa 24
Между тем, незаметно для себя, он спустился на замковый двор. После широкого простора, открывавшегося с замковой стены, ему показалось здесь как-то темно и тесно, он прошел раза два бесцельно по двору, и ему сделалось скучно…
– Хоть бы вышла, что ли, опять? – подумал он, поглядывая на окна гетманши, и вдруг с досадою оборвал себя. – И что это за чертовщина в голову лезет? Сказано – спокуса!
Он сплюнул сердито на сторону, нахлобучил на глаза шапку и решительно направился к своему холостяцкому помещению.
XLVII
Гетманша гуляла по саду, простиравшемуся за замком. Она срывала рассеянно то ту, то другую травку или еще уцелевший цветок и так же рассеянно бросала их в сторону. Деревья все стояли кругом золотистые и багровые, но красота их не обращала на себя внимания гетманши, на лице ее лежала мечтательное выражение, мысли ее были далеко.
Вот уже вторая неделя, как Самойлович уехал из Чигирина, а без него такая тоска здесь. Как ловок, как весел, как хорош, а как говорит… Ox! – гетманша подавила сладкий вздох. Ей вспомнился последний разговор с Самойловичем, когда он сказал ей, что любит ее одну, одну на целом свете, и когда, нагнувшись к ее лицу, коснулся своими горячими устами ее щеки. Ох, одно прикосновение его шелковистых усов ожгло ее, как огнем! И при одном воспоминанье об этом поцелуе лицо гетманши вспыхнуло, из глубины ее груди поднялась какая-то сладкая волна и, поднявшись до самого горла рассыпалась мелкой зыбью по плечам, по рукам, по всему ее телу; она почувствовала вдруг какую-то непреодолимую, нежную слабость и опустилась в изнеможении на близ стоящую лавку. Да, то же самое чувство охватило ее и тогда, когда он шепнул ей, склонившись над нею, голосом, задыхающимся от волнения, эти слова. О, Петр никогда не говорил так с нею! Слова его холодны, как лед, а от слов Самойловича лицо загорается, как от лучей летнего солнца! И могла она противиться ему? И кто бы оттолкнул его, послушавши его волшебные речи? По лицу гетманши мелькнула мечтательная улыбка, казалось, она снова переживала все те сладкие недомолвки, вздохи и пылкие речи, которыми опьянил ее маленькую головку Самойлович. Но вот из груди ее снова вырвался вздох, на этот раз не сладкий, а досадливый; действительность вернула ее к себе. Гетманша снова начала сравнивать между собою гетмана и Самойловича, – занятие которому она предавалась особенно часто в последнее время, и которое оканчивалось всегда весьма неблагоприятно для гетмана, но этот раз она была как-то особенно раздражена против него.
И зачем только вышла она за него замуж? Для чтобы вести такую скучную монастырскую жизнь. Никакого веселья, вот только и утеха, когда приедет он, Самойлович! Словно оживет весь этот замок, а то только и слышишь кругом: тревога… война… орда… ляхи. Ох, здесь можно задохнуться, как в подземном склепе! И чтоб она лишила себя этой единственной отрады, чтоб она увяла здесь без всякой радости, как вон та бедная квиточка? Нет, нет! Пусть пеняет на себя тот, кто не умеет сберечь свой «скарб». Разве гетман думает о ней, разве старается скрасить ее жизнь? Он только и занят своими полками, так почему же она должна думать о нем, почему должна отталкивать того, кто любит ее не так, как он, а так, что всю жизнь свою готов сложить для нее…
Гетманша закрыла глаза и предалась сладким мечтам.
И кто бы мог думать, что из того веселого маленького бурсака выйдет такой разумный да славный полковник? Да любит ли он ее так, как говорит? Может, «жартує»? Гетманша кокетливо улыбнулась, открыла глаза и снова повторила тот же вопрос: любит или жартует? Кажется, не похоже на то, чтобы жартовал! – улыбнулась она уверенной улыбкой. – Обещал приехать скоро снова… что ж не едет? Хотя бы знать отчего, почему? Вот уж вторая неделя на исходе, а ей без него все так немило, все так скучно здесь!
Гетманша задумалась.
В это время послышались шаги, на дорожке показалась Саня и, подойдя к гетманше, сообщила, что прибыл Горголя, привез какие-то драгоценные сережки и просит узнать, не пожелает ли ее мосць купить их.
Гетманша оживилась.
– Купить не куплю, а посмотреть можно; веди его в мою светлицу.
Гетманша прошла вперед, а Саня последовала за нею.
– Что ж это ты совсем без товаров? – изумилась гетманша, когда Горголя вошел в ее светлицу только с маленьким ящичком в руках.
– Ясновельможная пани гетманова, – отвечал Горголя, подходя к ней с низкими поклонами, – товары мои в нижнем городе остались, прикажешь – принесу и сейчас, а то спешил к тебе с этими сережками. Купил их на правом берегу у полковника одного, Самойловича, ему как-то случайно достались, так он мне их и продал, а я вот и поспешил привезти их твоей ясной мосци, захочешь – возьмешь, а нет так я их и назад отвезу, потому что, кроме твоей мосци, никто их не сможет купить.
При первом упоминании Горголею имени Самойловича гетманша вздрогнула и насторожилась, что-то странное послышалось ей в словах торговца.
– Ну, дай сережки! – произнесла она, поспешно протягивая руку.
Горголя подал ящичек и почтительно отступил назад. Гетманша открыла крышку, на дне ящичка лежала пара великолепных изумрудных серег, а под ними из-под шелка, покрывавшего ящичек, белело что-то, словно сложенная бумажка.
Как ни старалась гетманша сдержать свое волнение, но щеки ее ярко вспыхнули. Не решаясь взять в руки серьги, не решаясь вытянуть бумажку, она сидела в нерешительности над открытым ящиком.
По лицу хитрого торговца мелькнула лукавая улыбка.
– Может, ясновельможная пани дозволит мне сходить пока за моими товарами? – произнес он вкрадчиво.
– Да, иди, иди! – отвечала она поспешно, обрадовавшись возможности удалить его, – только приходи завтра рано, сейчас уже поздно, скоро вечер.
Горголя поклонился, пожелал гетманше всякого благополучия и поспешил выйти.
Лишь только дверь за ним затворилась, как гетманша дрожащими от волнения пальцами вытащила белевшую из-под обшивки бумажку и развернула ее. Это было действительно письмо, на нем не было написано, кому оно предназначается, не было подписано и кто писал его, но она догадалась сразу по одному лишь неудержимому биению своего сердца, от кого идут и кому предназначаются эти слова.
«Квите мий рожаный, сонечко мое ясне!» – начиналось так письмо. Оно было переполнено самыми нежными словами, самыми страстными излияниями любви. Автор его сетовал на злую долю, которая не дает ему любоваться своим «сонечком», спрашивал, может ли он иметь надежду на взаимность, говорил, что если нет для него надежды, то он отправится куда-нибудь на край света размыкать свою тоску. Письмо заканчивалось таким нежным выражением: «Счаслывишый мий лыст, що в твоих рученьках билых буде, ниж мое серце, що николы твою мосць не забуде».
В конце письма стояла приписка: «Посланому моему верь, ако и мне самому, или одпиши или одмовь через него».
Когда гетманша читала письмо, кровь до того стучала у нее в ушах, что она с трудом могла разобрать содержание его. Сердце ее билось так сильно, что дыхание захватило в груди, щеки пылали так горячо, что она должна была приложить к ним руки, чтоб охладить их жгучий жар. Она подождала несколько минут и снова принялась за чтение письма; и опять та же горячая волна окатила ее с ног до головы.
Увлеченная чтением этого страстного послания, она забылась до такой степени, что даже не слыхала, как у дверей ее светлицы раздались чьи-то шаги. Очнулась она только тогда, когда кто-то уже тронул рукою за двери, и едва успела сунуть торопливо за спенсер смятое письмецо, как в комнату вошел гетман.
Гетманша вспыхнула вся до корней волос и быстро отдернула руку от корсажа.
«Узнал? Увидел? Может, Горголя передал ему», – пронеслось у нее быстро в голове, и она замерла от ужаса на месте. Но гетман не заметил ее смущения, к счастью гетманши сумерки уже наполнили комнату.
– Что ты делаешь здесь одна в потемках, Фрося? Скучаешь, голубка моя? – спросил он нежным тихим голосом, подходя к гетманше.
Она молчала; она не могла еще прийти в себя от ужаса, охватившего ее при виде гетмана.
– Знаю, знаю, скучаешь, голубка, – продолжал он, подойдя к ней и садясь рядом. Он обнял ее шею рукой и притянул к себе на плечо ее белокурую головку. – Отчего же ты молчишь все, Фрося? Не рада мне? А может, больна, сохрани Бог, или сердишься на меня? Гетман пристально взглянул ей в лицо. Гетманша потупилась.
– Как не рада? Рада. Только я теперь так мало вижу тебя… вот мне и скучно стало, – отвечала она детски жалобным голосом, – ты все с казаками, со старшинами, а я все одна, да одна…
– Правда, Фрося… да нельзя иначе… – Дорошенко сделал досадливый жест и прибавил: – Хоть бы Самойлович приехал, что ли, он так умеет забавить тебя.
Гетманша вздрогнула и порывисто отстранилась от гетмана. «Что это, смеется он, или хочет испытать ее?» – пронеслось у нее в голове.
– Почему это ты говоришь о Самойловиче? Кто сказал тебе, что он умеет забавить меня? – произнесла она с оттенком обиды в голосе, устремляя на гетмана пытливый взгляд.
– Ха-ха! А ты уже и рассердилась, голубка, – ответил простодушно гетман. – Да просто потому, что молодой он, веселый, «балакучый», умеет рассказать разные «новыны», умеет посмешить, умеет и запеть, и струнами позвенеть.
У гетманши отлегло от сердца: лицо гетмана было так ясно и открыто, как лицо ребенка.
Гетманша успокоилась.
– Ветрогон и только, – отвечала она, поджавши презрительно губки и, обнявши шею гетмана руками, прибавила нежно: – Никого мне, Петре, кроме тебя, не надо, никого, никого!
Слова гетманши тронули гетмана, этот бесстрашный казак, смотревший холодно самой смерти в глаза, теперь пришел в необычайное волнение от одного ласкового слова этой маленькой женщины.
– Верю, верю, голубка моя! – произнес он с глубоким волнением, горячо прижимая ее к себе, – но подожди, потерпи, квите мой, еще немного и тогда, когда все успокоится, тогда мы заживем снова с тобою тихо и любо, как и прежде жили. Он горячо поцеловал гетманшу.
– А «докы сонце зийде, роса очи выисть!» – отвечала гетманша с легким вздохом, отстраняясь тихонько от гетмана и поправляя сбившийся слегка на сторону от его горячего поцелуя кораблик.
– Что делать, Фрося! – вздохнул глубоко гетман и, вставши, зашагал в волнении по светлице. – Теперь буря, дытыно моя, а в бурю все оставляют свои «хатни справы» и бросаются к веслам, к парусам, а наипаче «стернычый», который стоит у руля: ему вверили гребцы и свою жизнь, и свой корабль, он должен провести его между диких «хвыль» и подводны скал в тихую пристань. Теперь нам дует попутный ветер… И если Мазепе удастся устроить то дело, которое мы с ним задумали, тогда, – он отбросил с высокого лба волосы и произнес с воодушевлением, – дух захватывает, когда подумаешь о том, что может тогда быть! Даже трудно представить!… Ох! – он вздохнул всей грудью, как бы желая облегчить волнение, давившее его, и продолжал горячо: – Ты должна знать все, Фрося! Я обещал Бруховецкому отдать свою гетманскую булаву, лишь бы он согласился соединиться с нами и слить воедино расшарпанную отчизну.
На хорошеньком личике гетманши отразилось при этих словах Дорошенко крайнее изумление.
– Как? – переспросила она. – Ты это не «жартуєш»?
– Говорю правду, как перед Богом.
– И если он на то пойдет, ты ему и вправду отдашь свою булаву?
– Язык мой не знает лжи, Фрося.
По лицу гетманши мелькнула чуть заметная, не то насмешливая, не то презрительная улыбка.
– Какой же тебе выйдет со всего того «пожыток»? Так добивался булавы, столько крови пролил за нее, а тепе опять отдаешь ее назад, как прискучившую «цяцьку». Слова гетманши, видимо, оскорбили Дорошенко.
– Не говори так, Фрося, – заговорил он горячо, – да, добивался булавы, я пролил за нее братскую кровь, но не для того, чтобы едино захватить в свои руки «зверхнисть» и «владу», а для того, чтобы иметь возможность направить отчизну к покою и славе!
Он начал объяснять ей с увлечением весь свой будущий план. Да, он уступит свою булаву Бруховецкому, потому что иначе тот не согласится соединиться с ним. Конечно, Бруховецкий жаден, труслив, низок, не такого гетмана надо было б Украине, но всегда больше мира и ладу в той хате, где один хозяин, чем в той, где два, хоть и самых лучших. Да и Бруховецкий будет беречься теперь.
Гетман говорил с горячим, искренним увлечением; гетманша слушала его молча, только по лицу ее бродила легкая презрительная усмешка, не заметная гетману. Слова гетмана ничуть не трогали ее.
– «Что только говорит, послушать, словно малое дитя или хлопец безусый, – думала она про себя, следя взглядом за темной фигурой гетмана. – Отдаст булаву! Вот так гетман! Ха, ха! Другой бы подумал, как бы у Бруховецкого ее вырвать, а он!… Вот уже и седой волос в бороде пробивается, а он все еще разумом за хмарами летает, а перед глазами ничего не видит!»
В душе гетманши шевельнулось какое-то презренье к гетману, она взглянула на его высокую, костистую фигуру, на смуглое, худое лицо, на его темную простую одежду, и перед ее глазами вырос, как живой, Самойлович, пышный, блестящий, красивый, со своими шелковистыми усами, с пламенным, страстным голосом, шепчущим ей на ухо жгучие слова. «Вот кому бы быть гетманом, – подумала она невольно. – О, тот умел бы захватить все в свою крепкую руку, сумел бы и у Бруховецкого вырвать булаву. Король, король!… А этот, – гетманша бросила пренебрежительный взгляд на мужественную фигуру гетмана, на его воодушевленное лицо, и оно показалось ей сухим, жестким и некрасивым, – монах какой-то! Ворон!» – подумала она про себя и сжала презрительно губки.
А гетман все говорил… но гетманша не слушала его, голос его как-то сладко убаюкивал ее, мысль ее перенеслась к Самойловичу, к его страстной любви, к его нежному письму. «О, если б на месте этого скучного гетмана был он, дорогой, любимый… да, любимый…» – шептала она про себя, прижимая к груди маленькое письмецо. Наступившие в комнатах сумерки как-то невольно навевали на нее нежные мечты, а мечты ее уносились далеко-далеко.
Гетман между тем продолжал говорить с возрастающим одушевлением, не замечая того, что гетманша вовсе не слушала его.
– А если это не удастся мне, – окончил он, – тогда я двинусь со всеми войсками на правый берег, я сложу свою голову, я сгину в неволе, а соединю отчизну и освобожу ее от ляхов навсегда!
Он замолчал; слышно было только по глубокому и частому дыханию, как сильно волновала его эта мысль.
Фрося словно очнулась от какого-то сладкого забытья: восклицание гетмана пробудило ее и вернуло к действительности, но возвращение это не доставило ей удовольствия. «Правду говорит Самойлович, что он ничуть не ценит меня», – подумала она, услыхавши последние слова гетмана, и в душе ее пробудилось к нему уже явно неприязненное чувство.
– Послушать тебя, пане гетмане, так и увидишь, как ты любишь и жалеешь меня, – заговорила она, и ее всегда детский голосок зазвучал достаточно неприязненно, – когда так мало думаешь обо мне. Какая же будет тогда моя жизнь? Хочешь ты, чтобы меня убили, или ограбили так, как вдову Тимоши Хмельницкого, или продали в крымскую неволю?
– Дорогая моя! – произнес с глубоким волнением Дорошенко и, подойдя к ней, сел с нею рядом и обвил своей могучей рукой ее тонкий и нежный стан. – Не думай того, что я не люблю тебя! Я не умею широкими словами про свое «коханя мовыты», но Бог видит, что у меня есть только два дорогие на всем свете существа – матка отчизна и ты, дытыно моя. Она – моя кровавая рана в сердце, ты – моя радость, мой солнечный «проминь», своим словом ты «вразыла» мое сердце, но знай: тебя я люблю больше своей жизни, но для блага отчизны пожертвую всем: жизнью, душой – даже тобой! Скажи сама, был ли бы я гетманом, был ли бы я казаком, если бы не отдал ей все? Вспомни сама, наши матери и сестры сами полагали свою жизнь за отчизну, неужели бы же ты захотела, чтобы я, гетман Украины, был ниже их?
Гетманша молчала; в сущности, ей было решительно все равно, что сделает гетман; в душе ее только закипала глухая, но упорная неприязнь к этому человеку; каждое его слово подтверждало справедливость заключения Самойловича, что он не ценит ее, но эта мысль не огорчала гетманшу, а только усиливала ее холодную неприязнь.
Но гетман принял это молчание за безмолвное согласие.
XLVIII
Дорошенко горячо прижал к себе жену и словно замер этом порыве. Так прошло несколько минут.
– Ох, Фрося, Фрося, если б ты знала, сколько бессонных ночей провел я, думая о доле отчизны! – вырвался у гетмана вдруг неожиданный возглас.
Он заговорил с той страстной горячностью, с которой говорят замкнутые в себе люди, когда чувства и мысли, хранящиеся в глубине их сердца, наконец, переполнят его и выступят из берегов. Слова его лились неудержимым потоком. Он говорил ей о всех тех муках, которые пережил, глядя на страдания отчизны, он говорил о том, как он поклялся вывести ее из поруганья и униженья, он рисовал перед гетманшей светлыми, полными веры и надежды словами будущее отчизны, но сидевшая подле него женщина, которую он так горячо прижимал к себе, оставалась холодна и враждебна. Наконец и гетман почувствовал эту холодность, но он приписал ее тому, что гетманша все еще сомневается в его любви к ней.
О, нет!… Она, его дорогая Фрося, не должна думать, что, любя отчизну, он мало любит ее. Как солнце и месяц, так освещают они обе и день, и ночь его жизни! Он только и счастлив ею. О, если б он не был уверен в том, что она любит его, если б он не мог прижать к себе ее дорогую доверчивую головку, было ли бы в нем тогда столько сил для этой борьбы?
Дорошенко вздохнул и произнес задумчиво:
– Кто знает, если бы гетман Богдан не был так несчастлив, быть может, он не проиграл бы Берестецкой битвы, и родина не служила бы теперь в наймах у ляхов.
При этих словах гетманша встрепенулась и насторожилась.
– Ты говоришь, несчастлив? Что же случилось с ним? – спросила она, подымая головку.
– Он узнал перед Берестецкой битвой о том, что Тимош повесил его жену.
– Повесил?… Ох, Боже!… За что?
– За «зраду». Она изменила гетману. Да вот здесь, на этих самых воротах, и повесил, их видно в окно.
Гетманша взглянула по указанному гетманом направлению и с отвращением отвела свои глаза от видневшихся из окон ворот. Невольная дрожь пробежала по всем ее членам.
– Бр… – прошептала она. – Повесил, зверюка!
– Чего ж ты «зажурылась», моя зирочка? – повернул ее к себе ласково гетман. – Жалеешь ее? Не жалей! Таких гадюк жалеть не надо: им мало мук и в пекле, и на земле! – Глаза гетмана гневно сверкнули. – Да если бы она могла только воскреснуть, я бы сам повесил ее снова здесь, на позорище всем – вскрикнул он.
При этом возгласе гетманша сильно вздрогнула и побледнела.
– Петре… на Бога! Что с тобою? Ты пугаешь меня? – схватила она его за руку.
– Испугал! – гетман улыбнулся и провел по лбу рукой. – Ох, ты, дытыно моя неразумная, чего ж тебе пугаться? Ну, посмотри же на меня, усмехнись! – повернул он к себе ласково ее личико. – Ведь я знаю твое серденько любое, ведь я знаю, что ты никогда не изменишь мне. Ты моя дорогая, ты моя верная, – заговорил он нежным шепотом, тихо привлекая ее к себе…
На другой день Саня проснулась рано утром, и сразу же ей сделалось почему-то чрезвычайно весело. Она быстро вскочила с постели, выглянула в окно, увидала, что небо безоблачное, воздух чист, солнце ясно, улыбнулась скакавшим под окном воробьям и принялась торопливо одеваться. В это утро она отдала больше времени своему туалету, и время было потрачено не даром, так что даже гетманша спросила ее:
– Отчего это ты сегодня такая гарная, Саня, словно засватанная?
От этого вопроса Саня вспыхнула вся, как пунцовый мак, и прилежно наклонилась к работе.
В этот день все как-то особенно спорилось и удавалось ей; веселые песенки так и навертывались на язык, а день все-таки тянулся долго!
Наконец, когда солнце начало снова клониться к западу, гетманша приказала ей позвать Горголю, который уже с утра дожидался, а самой пойти присмотреть за работницами в саду. Саня с большой охотой бросилась выполнять поручение. Перед выходом она не забыла заглянуть в зеркало, отряхнуть на себе новый жупан и оправить намисто. В глубине ее души таилась надежда увидеться с Кочубеем.
Сбежавши со ступеней крыльца, она затянула громкую веселую песню и, отославши Горголю к гетманше, направилась в сад. Голос Сани звучал как-то особенно громко и задорно; злые люди, конечно, могли бы подумать, что это делалось не без умысла, но, по всей вероятности, помогали этому тихий, прозрачный воздух и ясный вечер. Зайдя к одним работницам, к другим, Саня повернула на одну из дорожек и вдруг увидала невдалеке от себя Кочубея, стоящего под высоким деревом. Хотя она и ожидала, и желала увидеть его, но эта встреча все-таки и удивила, и страшно обрадовала ее.
– Добрый вечер, пане подписку, – приветствовала она его веселой улыбкой.
– Доброго здоровья, панно! – поклонился ей Кочубей.
– А что пан подписок делает здесь? – произнесла она лукаво.
Кочубей смутился.
– Гм… – замялся он, – груш хотел потрусить.
Саня бросила быстрый взгляд на дерево и вдруг разразилась звонким, заразительным хохотом.
– Что такое случилось? Что так смешит панну? – произнес он, краснея и растерянно поводя во все стороны глазами.
– Груши! – воскликнула, задыхаясь от хохота, девушка. Груши! ха… ха… ха… На осокоре груши!
Кочубей оглянулся, действительно он стоял под высоким осокорем. Он окончательно смутился, а смех Сани раздавался все громче и громче.
– Гм… – произнес он, наконец, запинаясь за каждым словом, – что за чертовщина, а я думал…
– Ха-ха-ха! – перебила его со звонким смехом девушка. – Хороший хозяин будет из пана подписка: не умеет разобрать, где осокорь, а где груша. Вот груша!
С этими словами она подбежала к ближнему дереву и, охвативши одну из его веток своими крепкими руками, сильно потрясла ее. Послышался частый шум падающих груш; Саня быстро набрала их полный передник и, подойдя к Кочубею, произнесла с веселой улыбкой, подавая ему одну из лучших:
– Кушай, пане, на здоровье.
Кочубею ничего не оставалось, как взять ее из рук девушки, при этом он заметил, что руки у нее белые и пухлые, и на румяной щеке хорошенькая черная родинка.
А Саня продолжала между тем с лукавой улыбкой:
– Подставь же, пане, полу, возьми и остальные, чтоб не скучно было одному.
– Разве панна собирается покинуть меня?
– Мне надо идти по хозяйству.
– Куда ж так скоро?
– Как скоро, вон уже и солнце скоро спрячется. Надо готовиться к вечере. Прощай, пане!
– Прощай, ясная панна! – поклонился Кочубей.
Саня сделал уже несколько шагов, когда за ней раздался голос Кочубея.
– Постой, панна, – окликнул он ее.
– А что? – Саня остановилась и повернулась к нему в пол-оборота.
– Выйдешь завтра на замковую стену?
– Будет время, так, может, и выйду, – ответила девушка и поспешно скрылась в зелени деревьев. С минуту Кочубей стоял молча на месте.
– А ведь из нее вышла бы хозяйка хоть куда, – подумал он, глядя вслед девушке. – Черт побери, ведь приятно было бы съесть свежую палянычку, спеченную такими белыми и пухлыми руками? – задал он себе вопрос. Ответ был удовлетворительный, так как по лицу Кочубея разлилась довольная улыбка, но тут же его взгляд упал на наполненную грушами полу жупана. – Да что это я, справди, в дурни «пошывся», что ли? – вскрикнул он сердито и, вытряхнувши из полы груши, решительно пошел из сада.
Но, несмотря на недовольство Кочубея, судьба, как назло, устраивала так, что каждый вечер он встречался неизменно с бойкой выхованкой гетмана.
Между тем прошла еще неделя, а от Мазепы все еще не было никаких известий, прошла другая, но и за это время никто не узнал о нем решительно ничего.
Гетман начинал уже тревожиться – каждый день поджидал он от него гонца; но день проходил за днем, а ни гонца, ни самого Мазепы, ни даже какого-нибудь известия о нем не было до сих пор.
Между тем, близился уже срок прибытия орды, а вместе с ним близился и конец мирной жизни в Чигирине.
Однажды, попрощавшись уже с Кочубеем, Саня отошла на несколько шагов, затем остановилась и произнесла несмело, оборачиваясь к нему в пол-оборота:
– Пане подписку?
– Что, ясная панно?
– А война будет?
– Будет.
– Скоро?
– А вот как только прибудет орда.
– И все пойдут на войну?
– Все.
– И ты, пане?
– И я… А что? Саня покраснела и опустила голову.
– Ничего… так, – ответила она смущенно и торопливо прибавила, – прощай, пане, мне пора.
На этот раз, после ухода девушки Кочубей не рассердился на себя, а только крякнул многозначительно, молодцевато подкрутил свой ус и, сдвинувши на затылок шапку, задумчиво пошел из гетманского сада.
Так прошла еще неделя, и, наконец, Дорошенко должен был убедиться в том, что Мазепа погиб. Кроме тревоги за участь своего ротмистра, эта неизвестность могла иметь еще и ужасные, роковые последствия. Со дня на день должна была прибыть орда, войска гетмана были уже совсем готовы к выступлению, с прибытием орды он должен будет броситься немедленно на правый берег, – а если ответ от Бруховецкого был удовлетворителен, если он подавал хоть какую-нибудь надежду, если Мазепа, погиб где-нибудь по дороге, – какую ужасную ошибку сделает он, бросившись с войсками на правый берег! Он сорвет все дело, обещавшее такие богатые плоды, он прольет братскую кровь, и кто знает, доведут ли эти потоки родной крови до желаемого конца? А между тем, когда прибудет орда, уже нельзя будет ждать ни одного мгновенья.
Богун, который был также посвящен в затеянное Дорошенком и Мазепой дело, беспокоился не меньше гетмана о судьбе Мазепы и о последствиях, могущих возникнуть из этого неопределенного положения. Молодой шляхтич, спасенный от такой ужасной смерти Сычом, привлек к себе сразу симпатию его одинокого сердца; после же встречи с ним в Субботове симпатия эта укрепилась еще больше в сердце Богуна.
– Жаль, Петре, казака, жаль! – заговорил он, когда Дорошенко поверил ему свои опасения. – Голова разумная, сердце горячее, мог бы быть дорогим сыном неньке, а если он уже не едет и «звисткы» никакой не шлет, так значит случилось несчастье. Надо спасать его.
– Да как? Ведь если он не едет, так значит, Бруховецкий схватил его, а если это так, то ведь ни десятком, ни сотней казаков его не добудешь, а «вкыдатыся» нам заранее со всем своим войском до прибытия орды тоже нельзя.
– Гм… оно так, – произнес Богун задумчиво, накручивая на палец свой длинный ус, – одначе могло ведь с ним и в дороге что-либо случиться… так вот что, – поднял он голову, – пусти ты меня, Петре, может я со своими орлятами разыщу его.
– Когда бы было другое время, кто бы задумывался о том, Иване, а теперь разве не знаешь, что на весах лежит?
Дорошенко замолчал, молчал и Богун, понимая всю важность момента.
– А вот что, Иване, – произнес Дорошенко, – пойдем-ка, «порадымся» еще с владыкой.
Они застали митрополита Тукальского за рассматриванием какой-то рукописи.
Он выслушал внимательно Дорошенко, и лицо его омрачилось.
– Так, – заговорил он, поглаживая свою седую бороду, – уже больше месяца прошло с тех пор, как ротмистр в отлучке, видимо, что его схватил со всеми людьми Бруховецкий… Могли бы случиться с ними, конечно, и какие другие «прыгоды», чего в пути не бывает, но тогда бы спасся хоть кто-нибудь из его казаков, да и сам Мазепа человек осторожный: на опасность не нарвется, а татар ему опасаться нечего. Да если бы Бруховецкий и отпустил его с миром, то не получая от нас до сих пор известий, он сам бы прислал к нам, да ведь и полковник Самойлович известил бы нас о случившемся. Значит, бесспорно, его схватил Бруховецкий, а поелику он схватил его, то, видимо, не верит нам и не хочет соединиться. А если оно так, то нам нельзя ни в каком случае «вкыдатыся» до прибытия орды с войсками на правый берег, дабы не разбудить бдительности его «до часу».
И Дорошенко, и Богун молчали, не имея, что возразить.
– Так что же, так и пропадать казаку, владыка? – спросил после продолжительной паузы Богун. Владыко вздохнул.
– Един за мнози… Будем надеяться на Божье милосердие. Милость Его спасает и во рву со львами, и в пещи огненной оставляет в живых… Все замолчали.