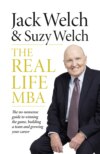Kitabı oku: «Гедонизм», sayfa 2
Глава 1. Пятнадцать лет назад
– Вот скажи мне, Паша,– обращался к своему другу Апатов, идя вместе с ним по сельской развороченной дороге,– почему ты младше меня на год, а я говорю с тобой и чувствую, что ничего не понимаю в жизни?
– А я тебя тоже спрошу,– отвечал спутник Апатову.– Ты много думаешь? То есть вообще, обо всём.
– Да вроде нет.
– Вот поэтому ты ничего и не понимаешь,– отрезал он.
Звали его Павел Викторович Глевский. Это был невысокий худой подросток с низким голосом, русыми волосами и голубыми, кристальными глазами. Он уже пару лет дружил с Сёмой и в шутку называл их общение «неравноценным разменом». Паша вполне справедливо считал, что растлевает Апатова и в то же время вдохновляется его наивностью.
– То есть ты хочешь сказать, что если много думать, то можно додуматься до того, что жить не нужно? – спросил Сёма, по-доброму смеясь.
– Как же не нужно? Очень даже нужно. Я всего лишь сказал, что жизнь бессмысленна, а хорошая смерть куда дороже плохой жизни.
– То есть?..
– То есть! – миролюбиво передразнил Паша.– Тут в двух словах не объяснишь. Сначала ты мне ответь: в чём смысл жизни?
– М-м… У каждого по-разному. У меня, например, в семье: хоть сейчас бы женился и детей стал воспитывать.
– Эх, ты, жених! Открою секрет: у всех смысл жизни одинаковый. Это счастье. Как тебе такая развязка?
Апатов почесал подбородок, на котором уже начинала прорезаться юношеская борода.
– Развязка, может, и хорошая, но слишком банальная, размытая. Счастье-то точно у всех разное.
– А вот и нет. Счастье тоже у всех одинаковое. Это покой.
Не внешний, когда можно лежать на диване и ничего не делать – такого покоя и у меня хватает. Все ищут душевный покой. И ты, «семьянин», жениться хочешь, потому что мозжечком своим чувствуешь: вот оно, разрешение проблем. Как тебе уже такая развязка?
– В этот раз поинтереснее. Понять бы, к чему ты клонишь, философ.
– Клонит философ к тому, что нет этого самого покоя и быть не может. Помнишь, как у Блока? Хотя я стихи не люблю, а с этим согласен: «покоя нет». Сам подумай – даже на твоём примере: живешь ты, обзавёлся семьёй, детьми, и вдруг понимаешь, что денег не хватает. Надо работу новую искать. Тут весь твой покой и улетучился.
Но, предположим, работу ты нашёл. Средствами всех обеспечил, даже немного прикопил. И внезапно – бац! – ты видишь, как твою любимую жену провожает до дома непонятный обольстительный тип. Тебя берёт ревность, ты начинаешь беспокоиться о том, как бы сохранить семью и одновременно разобраться с ухажёром твоей единственной. А тут ещё какая-нибудь болезнь подоспеет. Рак, к примеру. Где же будет твой покой? Не будет его, Сёма, не будет.
– Хм. То есть ты хочешь сказать, что счастье для простого смертного невозможно, потому что покоя нет, так?
– Именно так! Именно потому, что покоя нет, и именно потому, что его нет для простого смертного. Для святош и уникумов – да, пожалуй, есть покой. Но не для нас.
– А что, если мы уникумы? – с ухмылкой спросил Апатов.
– Ты вон и сам смеёшься. За тебя я, конечно, не скажу, но за себя точно отвечу: я – натуральнейшая часть толпы. Серейшая, так сказать. Может, есть у меня парочка идей, которая меня и отличит, но в остальном – абсолютное совпадение. Думаю, ты туда же. Уникумы…,– тихо повторил Паша.
– Да, в этом ты прав: все мы часть толпы. Росли в ней, впитывали, как губки, всякую гадость, и вот что получилось на выходе. Семён Апатов и Павел Глевский, и ещё миллионы таких же Семёнов и Павлов… Но всё же к чему ты подводишь? Я же чувствую, что к чему-то подводишь, ты ведь драматург!
– Конечно, подвожу. Но по традиции: сначала вопрос. Как тебе жертва жизни?
– Какая жертва жизни? – оторопел Апатов и даже слегка нахмурился.
– А самая простая. Когда умирают за другого человека.
– Вон ты куда метнул… Ну… Это очень большая жертва, жертва всем, я бы сказал. Это подвиг. В христианстве за него грехи прощают,– зачем-то добавил Сёма и заметно покраснел.
– Прощают. И в рай пускают. Только я тебе много раз говорил: христианство – это чушь. И Бога нет, и рая нет! Но сейчас не об этом. Всё, что ты сказал, Сёма,– это ерунда. Жертва жизни – это очень маленькая жертва. Это, я бы даже сказал, не жертва, а корыстная милостыня.
Паша на секунду замолк и насладился гримасой удивления на лице своего друга. Очень он её любил.
– Почему? – только и проговорил Апатов.
– Потому, что хорошая смерть дороже плохой жизни. Смерть – это покой, это счастье, а хорошая смерть – это, может, путёвка в рай,– с серьёзным лицом съехидничал Паша.
Помолчали.
– Но ведь не вся жизнь плохая? – одумался через минуту Апатов, радуясь, что нашёл возражение.
– Так и знал, что скажешь. Это правда, не вся. Но иногда какая-нибудь мелочь, какая-нибудь животная черта может пустить под откос очень многое. Тогда-то впечатление от жизни и портится. Так-то… А мы ведь пришли.
Паша внезапно остановился и еле успел удержать Апатова, который чуть не шагнул в мутную зеленоватую воду. Впереди была трясина.
– Вот тут бы и пожертвовать жизнью,– диковато усмехнулся товарищ нашего героя и посмотрел на него так странно, что Апатов поёжился.
Но Паша хлопнул его по плечу, поправил свои аккуратно зачёсанные волосы и стал что-то напевать.
Был вечер. Солнце потихоньку закатывалось за геометрические силуэты недостроенных высоток. Потихоньку перекликались птицы. Листья на чахлых болотных берёзках дрожали тоже потихоньку. Да и вообще здесь было тихо – в этом месте – небольшом леске за одним из скромных пригородных садоводств.
Глава 2. На койке
Первый день в больнице Апатов провёл почти бессознательно. Изредка он открывал недоумевающие глаза, что-то бормотал. Когда приходила медсестра, односложно просил пить, но его не понимали: говорил он на русском; тогда он вялой рукой показывал, как опрокидывает стакан себе в рот. И пить приносили.
Но так было только в первый день, а лежал Апатов уже вторые сутки. За это время он осунулся, побледнел и морально ослаб – видимо, подозревал: что-то с ним не так. Потом понял: раз попробовал встать с койки и сразу упал, как кукла с ватными ногами. Ноги действительно были ватные. Он их просто не чувствовал; щипал, бил, а не чувствовал. Апатов не на шутку испугался, позвал главврача и срывающимся голосом спросил: «What happened to my legs?» Тот развёл руками: не понимаю, мол. Тогда Апатов в ярости ударил себя по ноге кулаком. Доктор вздрогнул от неожиданности, но на этот раз всё понял. «Нэвра»,– промямлил он с сочувственной улыбочкой.
– Какая нэвра? – оторопел Апатов, и глаза его остекленели.– Как нэвра?
– Энкефалос,– добавил доктор, стуча по голове своим тонким длинным пальцем, будто дятел по твёрдому дереву.
«Энкефалос…» – пронеслось в голове нашего героя.– «Энкефалос… Энцефалит. Поражение мозга… Значит, мозг. По голове дало, э-эх».
– How long will it last?..– снова было попробовал Апатов, но главврач жалостливо замотал головой.
Тогда Апатов наконец вспомнил про телефон. Экран – 5 процентов заряда – переводчик – маленькие кнопки, по которым невозможно попасть трясущимися пальцами – внимательные глаза доктора – вердикт: пожатие плечами. И грустно-весёлые глаза, выражавшие надежду – то ли настоящую, то ли должностную.
«Что же теперь?» – именно эта троица слов пришла в голову Апатова, когда за главврачом закрылась дверь в палату.– «Что за дурацкий случай? Нелепица… Не лепится. Да уж, слепилось бы тут. Так что же теперь? Делать-то что? Позвонить… Но кому? Гоше? Гоше! Нет, не надо грузить его своими проблемами, у него же семья, дети… А вдруг я умру? Что запомнит этот наивный добряк… Запомнит, что я, гордый эгоист, не позвал его на помощь. Хотя нет, не так… Запомнит, что мог помочь, но не узнал вовремя, что случилось с его другом. Ведь себя обвинит, дуралей!.. Эх… По-зво-нить…
Нет, к чёрту звонить! Что я за рыба такая, чтобы звонить. Обычная песчинка – до пескаря далеко. Помру – значит, туда и дорога, а Гоша пускай детей воспитывает… Впрочем, чёрт с ним, напишу».
Экран показывал последние два процента заряда. Апатов лениво набрал сообщение: «Я в больнице. Если хочешь – навести». Сначала надеялся, что телефон сядет раньше, чем нажмётся заветная кнопка «Отправить». Но потом плюнул и нажал. «Не придёт – значит, поделом Джирджосу». Эта мысль доставила Апатову мрачное и какое-то злобное удовольствие: он даже улыбнулся и смешливо выдохнул. Как только сообщение ушло, экран погас.
Апатов отбросил телефон на плохенькую тумбочку и уставился в потолок. Как-то не думалось нашему герою, поэтому он тупо и медленно повторял про себя: «Двенадцать. Двенад-цать. Две-над-цать. 12…» Потом вдруг остановился. «Причём тут двенадцать?.. Блок, что ли?» – усмехнулся он вслух и вдруг подумал: «Интересно, сколько в городе больниц? Неужто, двенадцать?» Опять усмехнулся, отвернулся к стенке и закрыл глаза. И какое ему дело до Джорджоса? Захочет – найдёт его Джорджос; обшарит, обползает все больницы, но найдёт своего бывшего одноклассника, своего некогда послушника.
И Гоша нашёл своего некогда послушника. Примчался через полтора часа, из другого города, сбежав с семейного пикника.
– Сумасшедший,– радостно и немного брезгливо проговорил ему Апатов, когда тот с ошалелыми глазами ввалился в комнату.– А вдруг я простудился? Или перепил?
– Ты бы не написал тогда! – обрадовался бедный Гоша. Когда он получил «послание», то всерьёз подумал, что его друг при смерти.– Что с тобой?
– Ты только присядь. Успокойся, подыши там… Хочешь воды?
– Не нагнетай, пожалуйста, Сёма. Что случилось?
– Да вот, говорят, «нэвра». «Энкефалос»,– загадочно протянул Апатов, наслаждаясь беспокойством, которое уже почти выдавило стёкла из оконных рам.
– Что?
Гоша побледнел, как будто что-то предчувствуя.
– Ноги у меня отнялись, Джорджос, вот что. Да и, похоже, не только ноги. Помнишь, в детстве я всё думал, что я маленький, слабенький, недоразвитый? Так вот это всё бред был, сейчас себе недоразвитому завидую. С форой в победу проиграл бы себе недоразвитому.
Но Джорджос перебил:
– Стой, подожди… Как отнялись? Совсем отнялись?
– Ага.
– Чепуха какая-то… Из-за чего?! – как бы вдруг вспомнив, почти прокричал он.
– Да если бы я знал! За этим тебя и позвал сюда, кстати. Джорджос, Гоша, друг,– Апатов зачем-то схватил его за плечо и притянул к своему лицу,– Найди этого шарлатана (то есть врача, конечно, врача), и спроси у него, что со мной такое. Он мне так ничего и не объяснил толком, гадёныш. Всё своими лямбдами и бетами отмахивается. «По-английски ни бэ, ни мэ: не понимэ». Спроси у шарлатана, буду я жить или нет. Это достаточно важный вопрос. Разве не правда?
Ха, мне кажется, ты думаешь, что я брежу. Но я не брежу, чёрта с два! Разве можно бредить и так понятно изъясняться? Ха-ха-ха! Нет, нельзя. А я, может, только сейчас и не брежу, а всю жизнь до этого бредил…
Апатов медленно опустился на койку и закрыл глаза. Гоша стоял молча. Он был в каком-то печальном удивлении: такая резкая смена настроений сильно ударила по нему. Внезапно наш герой широко открыл один глаз и бездумно глянул на своего гостя:
– Ты ещё здесь? Я же попросил,– как-то уныло выговорил он и замолк.
Гоша вышел из палаты и направился к главврачу. Этому неожиданному посетителю тяжело было находиться тут: во-первых, наполовину размякший давний друг неприятно, даже жутко поразил его. Видеть Апатова, обычно спокойного и крепкого, обездвиженным и отчасти невменяемым было неприятно. Даже жутко. Во-вторых, вся обстановка греческой больницы угнетала Джорджоса. И вроде бы новое было здание, и выглядело всё более чем прилично, но витало здесь что-то мрачное, нагоняющее тоску: то ли из-за желтовато-гнилостного света, то ли из-за идеально белых стен казалось так. Гадость. Ну и в-третьих, Гошу волновал доктор, который не сказал Апатову ничего ясного. Почему?
Прислонившись к двери кабинета, курил человек в белом халате. Его длинные пальцы сжимали сигарету так, как будто он их скрещивал. Человек был среднего роста, очень худой, с чёрными кудрявыми волосами и седыми висками, такими же седыми аккуратными бакенбардами и какими-то седыми, но живыми глазами. Почему-то, взглянув на него, Гоша сразу понял, что это именно тот, кого он ищет. Главврач собственной персоной.
Гоша подошёл к нему и спросил:
– Hi, do you speak English?
– Hi, of course I do. I mean I’m a doctor, why would I not speak it? – ответил врач и, выдохнув дым, улыбнулся.
– Тогда почему вы не сказали ему, что с ним случилось? – без всякой злобы, смиренно спросил Гоша уже по-гречески.
– А, вы про того русского, который ног не чувствует? Да-а, не сказал… Побоялся. Вы ему кем приходитесь, собственно?
– Другом.
Главврач затянулся в последний раз и выкинул окурок. Вздохнул.
– Дело вот в чём. У вашего товарища повреждены некоторые части головного мозга. Вы вообще ничего не знаете?
– Вообще ничего.
– Как мне рассказали, в доме пациента взорвался газовый баллон… Вашего друга откинуло на три метра, и он упал головой на острый осколок. Каким-то чудом выжил… Мы сделали всё, что могли, но его травма очень серьёзна. Одним словом, он не умрёт, но, возможно, на всю жизнь останется инвалидом.
– Что с ним, доктор? – заглядывая в глаза главврачу спросил Джорджос.
– Трудно сказать. Он не может двигать телом от пальцев ног до пояса, а ещё он, вероятно, не чувствует вкусов. Пока я держал его на капельнице.
Вам, должно быть, интересно, почему я так решил… Я опережу ваш вопрос. На моей практике уже был похожий случай: нам привезли человека с пулей в голове и попросили сделать всё, чтобы он выжил. Мы сделали. Но у него отнялись обе руки, и он ослеп.
Я тогда был совсем молодой: пришёл, сказал ему всё, как есть: «Вы теперь инвалид, и, скорее всего, пожизненно». Крепитесь, мол. А этот человек был художником… На следующий день он выбросился из окна. Одним словом…
Не говорите вашему другу. Надежда есть, этого достаточно. Между прочим, он верит в Бога?
– Думаю, нет,– грустно ответил Гоша.
– Тогда самое время ему поверить.
Главврач хлопнул своего собеседника по плечу, мигнул ему и зашёл в свой кабинет. Куда-то толкали пустую каталку.