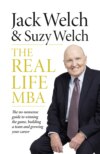Kitabı oku: «Гедонизм», sayfa 3
Глава 3. Исключительная потребность
Апатов снова остался наедине со своими мыслями, которые было невозможно привести в порядок. Всё путалось и мешалось, не давая ни шанса осмыслить происходящее: загадочный Гоша со своими заупокойными речами, этот проклятый газ и, конечно, будущее нашего героя, придавленное большим вопросительным знаком. Куда он теперь?
«Разве что в международную организацию помощи инвалидам»,– мрачно подумал Апатов и хотел было плюнуть с досады, но вспомнил, что его соседи по палате навряд ли одобрят такое желание. Да, в комнате, оказывается, лежали люди помимо нашего героя. Однако он часто про них забывал, так что для него помещение было как бы пустым и мёртвым. «А может и без помощи инвалидам обойдусь»,– вяло продолжал размышлять Апатов.– «Вон, Гоша какие поминки устроил… Гоша… Странный он, конечно: вроде бы и поддержал, а вроде только хуже сделал. Сказал бы прямо: каюк! Кранты тебе, друг Сёма, завтра – поминай, как звали. Так нет же: мало того, что отповедал, гад – ещё и воды налил похлеще доктора. Эгоист больше моего этот Гоша, а вообще-то чёрт с ним!.. Чёрт… С ним чёрт… А со мной кто тогда?.. Ха-ха. Неужто брежу? Хотя… Как там было? Да! “Разве можно бредить и так понятно изъясняться?” Ха-ха-ха-ха-ха…
И всё-таки что он имел в виду? “Жить нужно потому, что ты, может быть, один из немногих, кому есть, что сказать миру”, говорит. “Может быть, ты своими словами или делами спасёшь кого-то”, говорит. Какое мне дело до кого-то? Мне бы себя спасти для начала… “Именно от тебя зависят чужие судьбы, потому что ты – это часть всего. А твоя жизнь – это инструмент… Сами по себе мы бы никогда не прожили, не даром же люди – существа стадные”. “Веришь ты в Бога?”, спрашивает. Да какая разница, верю или нет?! Какая, в конце концов, разница, есть Бог или нет Бога?.. Нет, к чёрту, к чёрту Джирджоса!» – раздражённо решил Апатов и погрузился в совершенно иные мысли. Сейчас ему хотелось одного: понять. И он начал, что называется, с самого начала.
…
Семён Апатов появился на свет в Петербурге, и так уж получилось, что его окружение было чересчур контрастным. До четырёх лет он жил, как живёт почти каждый маленький человек: разъезжал в коляске по шумным и грязным улицам, катался на автобусах и трамваях с матерью за ручку, с отцом ходил в парк. Однажды даже слетал в Египет, где увидел настоящее, тёплое и солёное море. Но потом как-то по-особому повернулась судьба. Отца повысили, и мать решила устроиться на работу. Деньги стали водиться: маленького Сёму отправили в частный детский сад, который был обустроен лучше, чем квартира Апатовых. И все дети в его группе оказались очень холодными и безразличными ко всему, что происходило вокруг; даже воспитатели удивлялись: никогда ещё им не доводилось работать с такими «скептиками»: как только они не бились, чтобы заинтересовать своих воспитанников игрой. «Мне просто стыдно с ними»,– сказал как-то сотрудник детсада, увольняясь «по собственному».
Но Сёма, конечно, этого тогда не осознавал. Он просто жил, потому что был ребёнком. Тогда он ещё мог позволить себе нестись, не разбирая дороги; к тому же, дорогу эту он пока выбирал не сам.
Что было дальше? Дальше была команда: по его просьбе родители записали его «на баскетбол». И команда была простая, «СДЮСШОРовская» – на этот раз решили обойтись без частных секций. «Хочешь на олимпиаде золото взять?» – спрашивала тогда мать. «Конечно, хочу», – отвечал Сёма, доверчиво глядя ей в глаза. «Значит, решено: в СДЮСШОР».
И с появлением баскетбола жизнь Апатова стала лишь противоречивее. С одной стороны его окружали старые друзья: культурные, спокойные, холодноватые. С другой же стороны были его новые приятели – товарищи по команде: простые, грубые и в некотором роде страстные. И каждое лето Апатова ждали противоречивые приключения. Сначала он на месяц уезжал в спортивный лагерь, где тренировался и учился жизни, а потом – точно так же на месяц улетал путешествовать по Европе, поэтому ко второму классу он мог одинаково хорошо выругаться и рассказать о Римском Форуме.
Кстати, о втором классе. Сначала Сёма с родителями решил, что пойдёт в обычную школу. И он пошёл. Правда, понравилось не особо: если в детском саду все были спокойные, а в команде – наоборот, порывистые, то тут все вели себя попросту странно. То сидят тихо, то подскочат и закричат. То безучастно молчат, то вдруг захихикают, зашепчутся, а то внезапно и заплачут. Привыкнув к двум сторонам жизни, маленький Сёма странно чувствовал себя на их границе, где все – просто люди. Возможно, поэтому у него некоторое время не было друзей в классе. Но потом к нему подошёл довольно крупный мальчик и сам предложил общаться.
– Чего тебе, Гоша? – спросил маленький Апатов, сидя за своей партой и что-то рисуя.
– А чего тебе, Сёма? – парировал подошедший мальчик.
Апатов оторвал взгляд от своего листка и глупо поглядел на своего будущего друга.
– Ну, что смотришь?
– А что ты такой странный?
– А ты что такой грустный? Уселся тут, ни с кем не разговариваешь. Давай дружить?
– Давай.
Они по-взрослому пожали друг другу руки и пошли играть в пятнашки с другими детьми. Так и познакомились. И до конца второго класса их не существовало по отдельности: были только Гоша Радин да Сёма Апатов.
Но, окончив второй класс, наш герой вместе с семьёй переехал в отдельный дом, а от этого дома до старой школы идти приходилось очень долго. Поэтому Апатовыми старшими овладела «охота к перемене мест» – не только жилых, но и учебных. Всё ради сына. Устроили в платную школу, где он продолжил учиться и где он вскоре встретил Пашу Глевского.
Это был восьмой класс. Апатов – худой, болезненный, уже подросший, бродил по небольшой зале с компанией одноклассников, лениво перекидываясь словами. Скучал немного. И как раз в эту минуту скуки он заметил: кто-то из угла следил за ним холодными и пронзительно-голубыми глазами. Сёма хотел зажмуриться, но не мог. Что-то как бы приковало его взгляд: он сказал приятелям, что пойдёт в класс, а сам, сделав небольшой круг, подошёл к загадочному мальчику, который недавно изучал его со скамейки в уголке холла.
– Ты чего это? – спросил Апатов незнакомца своим неокрепшим, ещё по-детски тонким голосом.
– Да вот смотрю и любуюсь на вашу компанию,– отвечал незнакомец уже твёрдым баском.– Я разговора не слышал, но и без этого могу сказать кое-что про твоих… друзей? Хотя это неважно. Вон тот низенький у вас явно лидер. Должно быть, заноза и бо-о-льша-а-я мразь. А другой, который повыше, в сером пиджачке: спорим, он паинька, когда беседуешь с ним по-человечески, с глазу на глаз? Жалко только, что при Большой Мрази кожу меняет. Ну да это глупости, так ведь все почти делают. У себя не замечал такого?
Говоришь с каким-нибудь человеком – то есть только с ним – и всё спокойно так, дружелюбно… А потом подходит ещё кто-нибудь, и ты уже не ты, а конченная мразь. Шутишь, глумишься, откровенно вытираешь ноги о своего доброго собеседника. И всё ради того, чтобы утвердиться, чтобы на головы встать. Было такое у тебя, м?
– Было,– удивился Апатов и присел рядом.
– И как, приятно?
– Кому?
– Ну тебе, кому же ещё,– рассмеялся незнакомец, поднимая брови.
– Не знаю, не замечал,– отрезал сухо Сёма и скрестил руки на груди, заслышав презрение в насмешке этого непонятного мальчика.
– Ладно, не сердись! Мы ведь даже не познакомились, а ты уже дуться… Меня Паша зовут. А ты что за товарищ? Судя по всему, из восьмого…
– Семён, из восьмого «Б».
Проговорив это, Апатов нехотя протянул руку. Паша пожал.
– Я бы тоже в восьмой хотел. Ровесники у меня все дурачьё поголовное…
– А ты в каком?
– Да в седьмом…
– Вот так да… Я думал, ты с параллели.
– Да ведь так оно и есть… Я душой старше. Может, и тебя старше. Сказал бы точно, но пока не могу понять… Льстить не хотел, а всё-таки скажу: тебя не так-то просто разгадать… Семён. Ты какой-то неочевидный кадр, с тобой ещё придётся разобраться, но только не сейчас,– Паша резко встал, поправил штанину и, уходя, бросил,– Увидимся.
И увиделись. Через несколько дней он подошёл к Апатову и сказал:
– Помнишь наш разговор? Я ведь тебе не раскрыл самое главное: поливать кого-нибудь грязью при других – моё любимое занятие.
– Почему?
– Потому что я обычный человек, Семён. Кстати, мне не нравится, как это звучит: «Семён»… Можно я буду звать тебя «Семак»? Хм, Семак… Семак…
– Лучше просто Сёма.
– Ну что ж, Сёма, так Сёма. Будем теперь не разлей вода, помяни моё слово!
…
Молодые дни Апатова текли мерно, беспечно, в разговорах с друзьями и близкими людьми. Он действительно мало думал, в чём честно признался Паше Глевскому. Но Сёму это совершенно не волновало. Были в его душе дела посерьёзней, чем размышления.
К шестнадцати годам в нём проснулось сильное чувство, чувство неизвестное и непонятное. Это был как бы переизбыток сил. Апатов видел, что с ним происходит какое-то изменение: его стало сильнее тянуть к другим, он теперь жаждал всего нового, куда-то постоянно рвался. Но полное осознание пришло позже, когда он заметил, что придумал себе друга, которого он мог оберегать от опасностей и которого мог учить. Прямо как маленькая девочка – куклу. Признаться в этом себе было самым сложным испытанием за последние пару лет: он всё делал не так и, возможно, начинал сходить с ума.
– Это, брат, гормон,– говорил Паша, посмеиваясь над другом, которого как будто что-то постоянно злило.– Дело обычное, мы тоже проходили… Знаешь-ка, что?
– Что? – вызывающе спросил Апатов.
– Сучка тебе нужна, вот что.
– Сколько же в тебе романтики, Паша…
– Ой-ой-ой, а ты-то когда так размяк? Деликатничаете, сударь!
– Да ну тебя.
Сказав это, Апатов усмехнулся. Глупости.
– Стыди меня сколько хочешь, Сёма, а сучка нужна-а, ещё как нужна. Вспомнишь мои слова попозже, когда она появится – это тебе обещаю. А не вспомнишь – так напомню. Вот, мол, был такой старый философ Павел из Глевии, и изрёк он то-то и то-то…
Оказалось, что старый философ Павел из Глевии был прав, да и ждать долго не пришлось. Появилась одна из тех, кого Паша всенепременно звал «сучками»…
Апатов – тот, который сейчас лежал в греческой больнице и думал – даже на секунду приподнялся с койки: как-то странно заныло сердце от воспоминания о первой любви. Захотелось схватиться обеими руками за голову, но он сдержал себя. Вместо этого он взял с тумбочки стакан, полный воды, окунул в него руку и провёл ей по лбу. Жарко было. И так душно ещё, так неприятно душно, как если бы духота заползла в рот и уши Апатова и сдавила сердце. Он поморщился, сглотнул и вспомнил, как начинался его дневник.
«Без понятия, зачем я сел писать это. Наверное, потому, что не писать нельзя. Слишком много произошло – и вокруг, и внутри меня. Думаю, стоит начать с того, что я влюбился, причём влюбился крепко, как это называется, по уши. Никому пока не говорил. Да и незачем. Здесь этой новости самое место.
Нет, не могу. Сейчас мне хочется писать, думать, говорить только о ней. Что ж, тогда здесь будет её портрет. Опишу так, не подглядывая на фотографии – просто по памяти.
Зовут её Катя. Ростом она, пожалуй, даже ниже среднего, и еле дотягивает мне до плеча. Этакая миниатюра с какой-нибудь картины. Глаза у Кати зелёные, проникновенные, и смотрят в душу из-под густых, но аккуратных бровей. Забегу вперёд и скажу, что, может, полюбил я её именно за эти глаза.
Так вот, глаза эти большие и какие-то притягивающие: в них хочется смотреть и смотреть без остановки. Но самое притягательное в её лице – это, конечно, улыбка. Каждый раз, когда я смотрю на неё, мне хочется, чтобы она улыбалась. Ещё лучше – чтобы смеялась. Смеялась своим высоким, таким нежным и женственным голосом.
Чёрт, чувствую, что забираюсь в настоящие романтические дебри. Эх. Ну и ладно: писать, так писать.
Катя без всяких преувеличений красивая. Особенно хороши её волосы: густые и кудрявые, тёмные, но чуть светлее моих, они постоянно падают на Катино лицо, а Катя постоянно борется с ними. Убирает их либо за ухо, либо за плечо. Иногда, когда надоедает, она забирает их в пучок на затылке. Этот пучок не менее хорош.
Я бы мог расписывать ещё на много страниц, но чувствую, что нужно закончить с портретом. В конце концов, дневник про меня, а не про Катю. С которой, кстати, ещё чёрт знает что выйдет…
Как так получилось, что в 16, почти в 17 лет я впервые, основательно и по-настоящему влюбился? Этого даже я не понимаю. Понимаю только, что меня загипнотизировали, причём буквально. В каждом классе и коридоре школы я встречал Катины глаза. Пересёкшись взглядами, мы могли долго смотреть друг на друга, пока кто-нибудь не решится отвернуться. Смешное ощущение, надо сказать. Понимаешь, что неприлично в открытую пялиться, а смотришь и чего-то ждёшь.
Эх, вспомнил сейчас и чуть не покраснел: всё-таки хорошее, прекрасное чувство наполняет душу, когда смотришь в глаза любимого человека».
– Хорош же я был, самый настоящий Лермонтов,– пробормотал Апатов себе под нос, поворачиваясь лицом к белой чистой стенке.
Он вспоминал свои жалкие попытки заговорить с Катей. Один раз было дело в зале, когда он почти подошёл к ней, но в последний момент передумал и устремился дальше, вглубь толпы, которая, казалось, хохотала над Апатовым, выставляя напоказ свои белые кривые зубы. В другой раз – когда Сёма хотел попросить карандаш, но тоже передумал: «Буду я навязываться из-за мелочей…» В конце концов, ему стало стыдно перед «его внутренним Глевским». И правда, что он скажет Паше, когда тот узнает и спросит: «А как там дела у нашего ловеласа?» «Ну, Паша, ты знаешь, я с ней ещё ни разу не говорил… Да-а… Дрянь!»
И вот случай представился. Прямо на уроке Апатов внезапно заговорил с Катей и её подругой – тихой рыжей девочкой Галей.
– Скучновато, нет? – тихо буркнул он им, слегка развернувшись.– А вы, я слышал, ещё и экзамен по этому сдаёте. Самоубийцы…
Катя внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала; вместо неё заговорила подруга:
– Да нет. Химия – это просто, тут главное – понять алгоритм.
– Ага! А перед этим прочитайте-ка пару книг про все эти алканы, алкены и прочие… перлы. Читать, конечно, хорошо, но не в этом случае,– прошептал Апатов, и, заметив, что Катя немного улыбнулась, сам ужасно развеселился.– К слову, о книгах! Какие вы последними читали?
– «Гордость и предубеждение»… Ну, я ещё читаю,– спокойно ответила Катя, заставив Апатова вздрогнуть.
– И как тебе? Я ещё не читал,– зачем-то добавил Сёма и сконфузился; как только Катя начала рассказывать, он почему-то подумал, что надо бы спросить у Гали то же самое, а то всё будет слишком очевидно. «Да и Галя обидится, если не спрошу… Как же всё неловко, Боже…»
– …А ты? – долетел до Апатова обрывок вопроса, с трудом пробившийся через поток его мыслей.
– Что?
Сёма снова сконфузился и на этот раз, казалось ему, немного покраснел.
Обе девочки тихонько рассмеялись, и Катя повторила свой вопрос:
– А ты что читал последним?
– Я?.. Я вот за антиутопии принялся недавно. Почти все прочитал, остался только Хаксли… М-м-м… Так вам скажу: самая дельная у Брэдбери получилась, «Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту» которая. Всё очень по делу расписал. У Оруэлла тоже неплохо вышло, хотя я с ним не во всём согласен. Замятинская, кстати, тоже хорошая, только вот слишком абстрактно он всё описывает. Иногда даже не понимаешь, про что глава…
Увлёкшись, Сёма не заметил, что все давно что-то переписывают из учебника, его приятель давно подмигивает ему, а преподаватель давно испепеляет взглядом их, мирно беседующих.
– Апатов, подъём,– шутливо приказал учитель. Пришлось прервать разговор и встать.– Что у тебя там за romantique? Давай-ка вещи собирай и переезжай во-он за эту парту. Девочки, конечно, умные и прекрасные, но никто тебе не объяснит эту науку лучше меня, ты же понимаешь?
Жуткое воспоминание. Апатов, лежавший на койке, потёр бровь и поиграл желваками: зачем он только это запомнил…