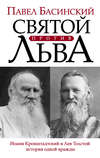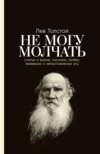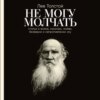Kitabı oku: «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины», sayfa 4
Вы сами понимаете, что то, чего хотел Лев Николаевич, было изначально невыполнимо? Он хотел сотворить свою жизнь силой своего великого таланта. И его расстраивало, что расходный материал, не слова и выдуманные персонажи, а живые люди слишком строптивы и никак не встают «детальками» в его проект. Девушки все не стоят в одной позе, а вертятся.
Вот Арсеньева. Так вроде замирает – и хороша, и подходит. А как двинулась, так – противна! Досада берет. Помните письмо, которое он ей написал в ответ на ее рассказ о пышной церемонии коронации Александра II?
Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это продерет против шерсти. Для тетеньки (Т. А. Ёргольской. – К. Б.)? Поверьте, что самый дурной способ дать почувствовать другому: «вот я какова», это прийти и сказать ему: «вот я какова!»… Вы должны были быть ужасны, в смородине de tout beaut1 и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье.
Любить haute volee2, а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой volee, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны… Насчет флигель-адъютантов – их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью… Поэтому, хотя мне и очень хотелось приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга Гр. Л. Толстой.
Сколько в этом письме ярости и злобы! Не на нее он злится, он злится, что своим письмом она испортила его представление о женском идеале. Он как бы в ее лице на всех женщин обрушивается: «Ну что ж вы такие дуры, не понимаете, какой надо быть?!» Простите, но откуда? И почему женщина должна соответствовать чьему-то идеалу? Это, кстати, и Софью Андреевну на какое-то время потом «парализовало». Она долгий период пыталась стать идеалом для Льва Николаевича. Потом достаточно агрессивно выходила из этого состояния.
То же самое было со всеми остальными «невестами». Поначалу кого-то он пытался «воспитывать», то есть выправлять в них что-то. Потом осознавал, что все равно «выпирает», а со стороны это уже выглядело как конкретные ухаживания. Но не мог же он пойти против себя и предать такую сильную мечту? Поэтому девушки просто отправлялись «в отставку».
В современном мире эти его «бывшие» просто пожали бы плечами, поплакали и пошли бы дальше, к более простым и непривередливым женихам. Обидно, конечно, но, может, и к лучшему. А тогда все-таки порядки были другие, весь «свет» следил за ухаживаниями молодых людей за барышнями, ставки делались, партии заключались. Хотя уже «по любви» и чаще, чем по расчету, но все равно, каждую девушку судили по «репутации», и если кто-то из кавалеров «походил около, да в дом не зашел», девушка теряла часть своей ценности. И граф, таким образом, нанес ущерб ни в чем не повинным созданиям.
П.Б./ Я соглашусь с вами в том, что Толстой искал себе идеальную жену (кто из мужчин об этом не мечтает?), а женщина не обязана быть идеалом. Но это понимание к нашему брату приходит с жизненным опытом. Или не приходит – отсюда разводы.
Но вы совершаете характерную ошибку, в которую впадают не только обычные люди, которые интересуются этой семейной историей, но и профессиональные филологи. Вы пытаетесь объяснить поведение Толстого тем, что он был прежде всего великий писатель, создававший свои художественные миры и потому не способный разделять жизнь и литературу. Извините, но это все сводится к обывательской фразе: «Что делать? Он же был гений! Художник! Как трудно с ним было обычной женщине!»
Гений-то гений, но не только в литературе. Толстой был величайший психолог. Он видел людей насквозь, как рентген! У меня иногда бегут мурашки по коже, когда я читаю дневники Толстого. Вот его сын Илья вроде бы счастлив. Прекрасная жена, тоже Соня, много детей, свое имение. А Толстой пишет в дневнике, что Илья будет несчастен. И сравнивает себя с пауком, который прячется под лист до того, как пойдет дождь.
Толстой очень хорошо мог разделять литературу и жизнь. Арсеньеву с Тютчевой он «просчитал» сразу, что это – не то! Не «тянут» они на него! «Раздавит» он их! Но, как человек постоянно сомневающийся, он впутывается в какие-то с ними отношения, на что-то надеется… И наконец окончательно понимает: не то, не «потянут»!
В этом вся проблема.
К.Б./ Мне бы хотелось вам поверить, что Толстой прекрасно разграничивал вымысел и реальность, но вы упускаете тот момент, что человек, хорошо анализирующий поведение и характер других людей, легко считывающий какие-то только наметки их личности, может не удержать «собственного веса». Со стороны всегда виднее. Труднее – посмотреть на себя. Здесь мы с вами останемся каждый при своем, пожалуй.
Между Лизой и Соней
П.Б./ Хорошо, забыли о прежних «невестах» Толстого. Итак, Берсы. Однажды Толстой говорит своей сестре: «Машенька, семья Берс мне симпатична, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье». То есть ему, в сущности, не столь важно, на какой именно сестре Берс он женится, а важно, что это – семья Берс! «Модель» этой семьи его полностью устраивает.
Эти слова подслушала гувернантка детей его сестры Марии Николаевны и передала своей сестре, гувернантке детей Берс. Она сообщила эту информацию всей семье. И началось то, что началось…
Для семьи Берс Толстой был очень завидный жених. Боевой офицер, имеет награды. Помещик, которому принадлежит уже не только Ясная Поляна, но и большое имение скончавшегося брата Николая Никольское-Вяземское, родовое имение их отца. Знаменитый писатель, автор «Детства», «Отрочества», «Юности» и «Севастопольских рассказов». Родовитый граф. Не слишком богат, но и не беден.
На выданье – две сестры: Лиза и Соня. Но, по обычаям того времени, первой выйти замуж должна старшая сестра. К тому же Лиза по всем статьям вроде бы подходит графу. Умница, много читает, уже сотрудничает с Толстым в его журнале «Ясная Поляна». Красивая. Что еще нужно? Но Толстой с Лизой ведет себя абсолютно таким же образом, как и с Арсеньевой, и с Тютчевой. То есть весьма жестоко. Надежду девушке дает, а в дневнике пишет: «Лиза Берс искушает меня, но это не будет». Или так: «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой».
Объясните мне, Катя, как можно быть «красиво несчастливой»? Как Анна Каренина или как Долли Облонская? Мы ведь помним, что «все несчастливые семьи несчастливы по-своему».
К.Б./ Странно, Павел, что вы задаете этот вопрос. Было бы логичнее мне спросить у вас, исследователя личности Толстого, что же это за код такой? Может, у него в дневниках есть градации несчастья, какие-то «эскизы» к «Анне Карениной»? С моей стороны эта фраза читается как взгляд художника на модель. «Спроектировал будущее: сидит у окна, в чепце, холодна и спокойна, отрывает взгляд от моей рукописи, смотрит на меня. Ни тени истерики, рука плавно опускает перо, на ее лице мучительная улыбка, за которой кроется ощущение глубокого несчастья, но нет – не выдаст его». В моих глазах так выглядит «красиво несчастлива». Несчастлива, но глубоко, не разрушая внешнего благополучия и как бы подчеркивая трагичность внутреннего внешним спокойствием. Но у меня с моим образом возникает диссонанс. Такой я Лизу представить не могу. А вы?
П.Б./ Не знаю. Но хочется воскликнуть: «Бедная Лиза! Она убедила себя в том, что любит графа».
Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням (о том, что Толстой собирается сделать ей предложение. – П. Б.), но понемногу и в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто и сердце, в ней пробудилось что-то новое, неизведанное. Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивала его: «Какая я? Какое произвожу впечатление?» Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль…
Казалось, что ее разбудили от продолжительного сна, что ей внушили, навеяли эту любовь и что она любила не самого Льва Николаевича, а любила свою 18-летнюю любовь к нему.
Соня заметила в ней эту перемену и подсмеивалась. Писала на нее шуточные стихи и говорила:
– А Лиза наша пустилась в нежности. А уж как ей не к лицу.
И я приставала к Лизе:
– Лиза, скажи, и ты влюблена? Зачем ты вперед косу положила, прическу переменила? А я знаю, для кого, только не скажу.
Лиза добродушно смеялась, обращая в шутку мои слова.
– Таня, а идет мне эта прическа с косой? – спросит она меня.
– Да, ничего, – скажу я, принимая почему-то снисходительный тон.
(Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»)
В конце концов Толстой от Лизы «сбежал», как от Арсеньевой, только не за границу, а в Башкирию. Повод был. Два старших брата, Николай и Дмитрий, умерли от чахотки, причем с Николаем в его последние дни он жил в одном номере гостиницы. Толстой подозревал, что сам болен чахоткой (он покашливал). И хотя обследовавший его Андрей Евстафьевич Берс сказал, что чахотки у него нет, Толстой отправился в Башкирию, в степь, «на кумыс», – тогда это считалось средством от чахотки. Но по его дневнику понятно, что другой не менее важной причиной были ложные отношения с Лизой.
И скажу вам откровенно, Толстой в этой ситуации мне крайне неприятен, а Лизу жалко. Он пробудил в ней чувства, дал ей надежду, заранее зная, что «это не будет». То есть не женится…
Однажды Толстой привез к Берсам яснополянских крестьянских детей. Лиза их демонстративно не замечала, а Соня с ними играла и была очень ласкова.
Как вы говорили, «комбо»? Два фактора в одном? Вот и Соня оказалась таким «комбо». Вы сами напомнили, что Толстой вырос сиротой. Да, он потерял мать, когда ему не было и двух лет, он ее совсем не помнил. Отец скоропостижно скончался от удара, когда Лёвочке было 8 лет. Для сироты, который ищет себе жену, болезненным моментом является то, как его будущая невеста относится к детям.
Это один момент в пользу Сони.
Второй. Зачем он привез к Берсам крестьянских детишек? Не исключаю, что это был такой тест для двух сестер: как они воспринимают крестьян? Смогут ли наладить с ними отношения? Или будет барыня, которая станет морщить нос от крестьянского запаха. Соня этот тест прошла, Лиза – нет.
Но, согласитесь, вел он себя жестоко. А как женщины воспринимают такой мужской тип?
К.Б./ Ответить вам за всех женщин я не берусь. Но отмечу то, что бросилось мне в глаза в этом «типаже». Во-первых, как отмечала Т. А. Кузминская, Лев Николаевич был как бы везде, со всеми и всеми интересовался. Во-вторых, был участлив, хотел помочь тем, кто ущемлен в чем-то, любил детей. В-третьих, его не надо было специально развлекать, он сам себя развлекал и никогда не скучал. Был наблюдателен, оценивал и давал обратную связь. Например, когда взял девочек с собой в какую-то крестьянскую избу недалеко от Покровского и крестьянка показывала больного экземой малыша, а девочки ей давали советы, – он сообщил матери, какие у нее хорошие девочки. Или когда Соня не дала себя перенести на закорках через ручей Нилу Попову – и Лев Николаевич ее похвалил за это. Такой Большой Брат, к мнению которого хочется прислушаться и одобрение которого хочется заслужить. Каким образом в этом мужчине можно заподозрить жестокость? Девушки велись на его «проверки», не задумываясь, что решается их судьба.
П.Б./ Одним словом, Лиза тоже «не тянет». Не выдержит она жизни с ним. Несчастлива будет, красиво или некрасиво, уже не суть важно. Просто будет несчастлива. Он, соответственно, тоже.
Но кто же тогда остается, если он решил жениться непременно на ком-то из сестер Берс? Только Соня. Тане еще нет шестнадцати. Она его «соблазняет» (не специально, а может и специально, не знаю), она, будем откровенны, даже в детском возрасте была очень сексапильна, но он не этого прежде всего ищет.
Соня! Все сходится к ней!
Но тут у меня возникает вопрос. Если он, как глубокий психолог, сразу разгадал трех сестер, то его женитьба на Соне должна была стать результатом не душевного порыва, а веления рассудка. Столько перебрал «невест», всех «просчитал», от всех отказался, в том числе и от Лизы. Но тогда почему у него внезапно вспыхивает невероятная любовь к Соне? Ведь о любви к ней, причем какой-то сумасшедшей, на грани суицида, он начинает писать в дневнике, когда возвращается из Башкирии, и семья Берс по дороге к дедушке Исленьеву в село Ивицы заезжает в Ясную Поляну. И там происходит сцена, после которой можно сказать: «Участь его решена!»
Когда стало смеркаться, мать послала меня вниз разложить вещи и приготовить постели. Мы стелили всё с Дуняшей, горничной тетеньки (Т. А. Ёргольской. – П. Б.), как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, говоря, что троим на диванах постелили, а вот четвертой – места нет. «А на кресле можно», – сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему табуретку. «Я буду спать на кресле», – сказала я. «А я вам сам постелю постель», – сказал Лев Николаевич и неловкими движениями стал развертывать простыню. Мне стало и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов. Когда все было готово и мы пошли наверх, сестра Таня, усталая, свернувшись, спала на диванчике в угловой комнате тетеньки, мама́ беседовала с тетенькой и Марией Николаевной, а Лиза недружелюбно встретила нас глазами.
(С. А. Толстая. «Моя жизнь»)
Ух как мне нравится это место в мемуарах Софьи Андреевны! Все-таки она была незаурядной писательницей!
Всё – Лизы нет! Она потеряла жениха. Его отбила средняя сестра. С одной стороны, очевидно, что так, и вскоре Лиза пожалуется Тане: «Соня перебивает у меня Льва Николаевича. Разве ты этого не видишь?» Но с другой стороны, – кто кого соблазняет? Ведь Толстой ведет себя как опытнейший ловелас! Но мы точно знаем, что он не был ловеласом. У него были женщины, но все «купленные», в том числе, скажем прямо, и Аксинья. С другими женщинами Толстой был неловок, неконтактен. Откуда в нем это взялось?
Потом эта сцена в Ивицах, куда он приехал вслед за ними, и явно не к Лизе. Сцена, которая стала одним из самых «хитовых» мест в романе «Анна Каренина», где Лёвин на ломберном столике мелком начальными буквами объясняется Кити в любви.
«В. м. и. п. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.», – написал Лев Николаевич.
– Ваша молодость и потребность счастья, – прочла я.
Сердце мое стучало так сильно, в висках что-то забилось, лицо горело, – я была вне времени, вне сознания всего земного, и я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту.
– Ну еще, – сказал Лев Николаевич.
«В. в. с. с. л. в. н. м. и. в. с. Л. З. м. в. с. Т.»
– В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с Таничкой, – быстро и без запинки читала я по начальным буквам.
(С. А. Толстая. «Моя жизнь»)
Какая яркая сцена!
Но, возвращаясь к вашим словам о «змеином» языке, который знали Соня и Толстой, как Гарри Поттер, я все-таки немножко развею этот миф. В комнате тогда находилась сама Танечка, пряталась под фортепьяно. И она потом писала, что граф подсказывал Соне отдельные слова. Думаю, это было так: он говорил одно слово, она добавляла второе и т. д. Будем честны, Катя, – невозможно прочитать такие две сложные фразы по начальным буквам. Это все равно, что читать мысли на расстоянии, а я в это не верю.
Но и это не суть важно. Важно, что в этой сцене был такой «интим»! Но опять у меня возникает вопрос: кто кого соблазнял?
К.Б./ Я отвечу сначала о «не-ловеласности» Толстого: «Откуда что взялось?» От природы. Это же в нас на уровне инстинкта. Интуиции. Ну почему обязательно кто-то должен кого-то соблазнять? Два человека, чувствующие симпатию друг к другу, ищут моменты близости. Мы ведь с вами уже проследили «закулисное» начало этой любви. Сонечка к тому времени уже чувствует, что влюблена в графа, но мучается моральными вопросами: «А как же Поливанов? А как же Лиза?» Она мучается этим, и ее повесть «Наташа» – тому свидетельство. А Лев Николаевич понимает, что хочет жениться у Берсов, но не хочет на Лизе, а Соня – что-то невообразимое! Сцена в Ясной Поляне и Ивицах – кульминация обретения обоюдного чувства. Они просто искали уединения и внимания друг друга.
Вы так не думаете?
«Наташа»
П.Б./ Я думаю о другом. Зачем она дала Толстому прочитать повесть «Наташа», о которой вы упомянули? Вы говорите: она уже влюблена в него. Согласен. Но он-то? Имейте в виду, Толстой не только имел дело с продажными женщинами и крестьянкой Аксиньей. Были у него и нежные влюбленности. В детстве – в Сонечку Колошину. В Любочку Иславину. Когда они с братом Николенькой ехали на Кавказ (вернее, плыли на лодке) и остановились в Казани, у молодого Толстого была короткая вспышка влюбленности в Зинаиду Молоствову, подругу его сестры Маши.
Соня об этом, положим, не знала, ведь она еще не читала его раннего дневника. Но! Вот девушка влюблена в мужчину. Писателя! И дает ему прочитать свою повесть, где он изображен в образе Дублицкого, причем довольно негативно. Повесть она потом уничтожила, но о ее содержании мы знаем из воспоминаний Кузминской.
В повести два героя: Дублицкий и Смирнов. Дублицкий – средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов – молодой, лет 23, с высокими идеалами, положительного, спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру.
Героиня повести – Елена, молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная, холодная блондинка, и меньшая – 15 лет Наташа, тоненькая и резвая девочка.
Дублицкий ездил в дом без всяких мыслей о любви.
Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он делает ей предложение; она колеблется дать согласие; родители против этого брака, по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Описание его сердечных мук. Тут много вводных лиц. Описание увлечения Зинаиды Дублицким, разные проказы Наташи, любовь ее к кузену и т. д.
Дублицкий продолжает посещать семью Елены. Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется со своим чувством, но борьба ей не по силам. Дублицкий как бы увлекается ею, а не сестрой, и тем, конечно, привлекает ее еще больше.
Она сознает, что его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет ее. Она мысленно часто сравнивает его с Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит меня, ничего не требуя от меня».
Приезжает Смирнов. При виде его душевных страданий и вместе с тем чувствуя увлечение к Дублицкому, она задумывает идти в монастырь.
Тут подробностей я не помню, но кончается повесть тем, что Елена как будто устраивает брак Зинаиды с Дублицким и много позднее уже выходит замуж за Смирнова.
(Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»)
Смирнов – это кадет Поливанов, с которым Соня тайно помолвлена. Зинаида – это Лиза. Наташа – это Таня. Елена – Соня.
И здесь у меня возникает «когнитивный диссонанс». Зачем, будучи влюбленной в Толстого, она дает ему читать повесть, где его как бы «казнит»? Ведь это пощечина! И это не только не логично, но и очень опасно. Она дает это читать уже признанному писателю, который является ее кумиром. Она что, была настолько уверена в художественных достоинствах этой повести? Почему тогда уничтожила? Второй вопрос: она не думала, что, прочитав такое, Толстой отвернется от нее и сделает предложение Лизе, как это и следует из повести?
У меня есть два взаимоисключающих предположения.
Или Соня была действительно до такой степени наивной девушкой, что сделала это без всякой задней мысли, просто – потому что попросил дать прочитать (но как-то же он узнал про повесть, она ведь ее не скрывала).
Или в ней до такой степени была развита женская интуиция, что она «просчитала» реакцию Толстого.
А реакция его была такой. Именно после прочтения «Наташи» он в дневнике признается, что «влюблен, как не верил, что можно любить». Именно этой повестью она разбудила в нем а) ревность и б) страстную любовь.
К.Б./ Павел! Сонечке в тот период 17 лет. Бывают, конечно, женщины, с юности патологически расположенные к коварству, но, если бы Соня Берс была бы такой, мы бы с вами уже давно это увидели. Но вы сами посвятили львиную долю нашей беседы описанию «милой девочки», в которой рано проснулось материнство. Не делайте из кошки тигрицу. Почему Соня решилась дать повесть графу? Об этом есть в воспоминаниях Кузминской. Танечка сетует, что Соня рассказала Льву Николаевичу о ее ссоре с Сашей Кузминским, говоря, что граф будет ее осуждать…
– Нет, – спокойно заметила Соня. – Ему все можно сказать, он все поймет. Он сказал, что Кузминский славный и серьезный малый. А потом я сказала ему, что писала в это время повесть, но еще не окончила ее. Он очень удивился и заинтересовался ею. И все говорил: «Повесть? Как же это вам в голову пришло, и какой сюжет вы избрали?»
– Описываю приблизительно нашу жизнь, – сказала я.
– Кому же вы даете читать ее?
– Я читаю ее вслух Тане.
– А мне дадите?
– Нет, не могу, – отвечала я.
Он спрашивал, «отчего?». Но я не сказала ему, что описываю и его, и оттого не даю. Он очень просил меня, но я стояла на своем.
Тут подошла к нам Лиза, и мы прервали разговор.
(Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»)
Вы по-прежнему уверены, что она пыталась провоцировать Льва Николаевича своей повестью?
Я думаю, дело было так. В Соне от рождения было заложено большое творческое начало. Она любила поэзию, литературу, любила сочинительство. Играя с младшими детьми, она наверняка выдумывала разные истории и сочиняла сказки. Она вела девичий дневник, в котором отчасти «развивала» свое литературное дарование. Она цитировала наиболее понравившиеся ей отрывки из чужих произведений и выучивала их наизусть (вспомним ее увлечение «Детством» Толстого). То есть литература составляла значительную часть ее жизни с детства. И когда в ней накопилось большое количество неразрешимых вопросов, она прибегла к классическому способу самопсихотерапии – арт-терапии. Собственно, все подростковое творчество – это арт-терапия. Способ выпустить наружу мучающие тебя вопросы, художественно их обработав и надев на себя «маску». Вот Сонечка и «выпускает» на бумагу все, что накопилось, – пишет повесть. В ней любовь к сестре Тане, противоречивые чувства по отношению к Поливанову, к Лизе и к графу. Но главное в ней – тупиковая ситуация в отношениях между Лизой и графом, ее привязанность к графу и чувство долга, жалость к Поливанову. В ее девичьей головке это все представляло собой шар с газом, который движется в хаотическом порядке. Долго находиться в таком состоянии опасно – чуть поднесешь спичку и рванет. Нельзя, чтобы рвануло – вспомним, как реагирует мама́ на истерику: «Это неприлично!» Тогда Соня расписала существующую ситуацию на бумаге и попыталась найти выход из нее. Вспомним, как она благоразумно все разрешила. Но это повесть, в ней ты можешь поступить по велению рассудка. Самое сильное переживание Елены оказалось не так просто разрешить: «Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется со своим чувством, но борьба ей не по силам». Борьба ей не по силам! Соня при всей своей рациональности была импульсивным человеком, именно по желанию сердца она сделала свой выбор в жизни.
Почему она рассказала Льву Николаевичу о повести и в итоге дала ее почитать? Потому что он литератор, ей все-таки хотелось перед ним… я бы назвала это «попавлиниться» (распустить свой хвостик), показать, что она тоже занялась литературой. Ей было приятно получить от него одобрение. Но сначала она испугалась, так как повесть-то интимная, там все читается прозрачно. Описывая графа, я думаю, она была честна в своих оценках. Вы знаете, что взгляд на предмет «влюбленными глазами» и рациональный взгляд – это разные вещи? Вот тогда она еще смотрела на него недостаточно «влюбленными глазами».
И, может быть, именно это – что героиня так разумно все устроила и жертвенно отказалась от своей любви к Дублицкому, повернуло сердце Толстого к Соне. Или вы будете убеждать меня, что соперничество не добавляет адреналин в кровь мужчины? А еще – эта ее прямота в описании его. Он пишет в дневнике по поводу повести: «Что за энергия правды и простоты!»
Вот такое сложное объяснение.
Не про тебя, старый черт!
П.Б./ Но давайте перечитаем дневник Толстого августа – сентября 1862 года.
23 августа. [Москва.] Не ел два дня, мучился зубами, ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая… Я боюсь себя, что ежели и это – желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже.
24 августа. О Соне меньше думаю, но когда думаю, то хорошо.
26 августа. Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты! Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня. Труд и только удовлетворение потребности.
28 августа. Мне 34 года. Встал с привычкой грусти. Поработал, написал напрасно буквами Соне… Приятный вечер у Тютчевых. Сладкая успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о браке, твое призванье другое, и дано зато много.
29 августа. Пошел к Берсу, с ним в Покровское. Ничего, ничего, молчание… Не любовь, как прежде, не ревность, не сожаление даже, а похоже, а что-то сладкое – немножко надежда (которой не должно быть). Свинья. Немножко, как сожаленье и грусть. Но чудная ночь и хорошее, сладкое чувство… Грустно, но хорошо. Машенька говорит: ты все ждешь. Как не ждать.
30 августа. Дома обедал, заснул и потом к Берс. Соню к П<оливанову> не ревную; мне не верится, что не я. Как будто пора, а ночь. Она говорит тоже: грустно и спокойно. Гуляли, беседка, дома за ужином – глаза, а ночь!.. Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен… Ночевал у них, не спалось, и все она. «Вы не любили», – она говорит, и мне так смешно и радостно.
31 августа. И утром то же сладкое чувство и полнота любовной жизни… К Тютчевым, закорузлые синие чулки. Как мне на них гадко. Кто-то заговорил, и мне показался ее голос. Крепко сидит… Не про тебя, старый черт!
7 сентября. Нынче один дома и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь – там, брат, кадеты.
8 сентября. Пошел-таки к Берсам к обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл. Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, – условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет.
9 сентября. Она краснеет и волнуется. О Дублицкий, не мечтай. Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Уехать из Москвы не могу, не могу. Пишу без задней мысли для себя и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год.
До 3-х часов не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и мучился.
10 сентября. На Кузнецкий мост и в Кремль. Ее не было. Она у молодых Горскиных. Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде… Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи! помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и все напрасно. Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу. Господи, помоги мне, научи меня. Матерь божия, помоги мне.
11 сентября. С утра писал хорошо. Чувство так же сильно. Целый день, как и вчера. Не смел идти к ним… Устал. Какое-то физическое волнение.
12 сентября. Целый день шлялся и на гимнастике. Обедал в клубе. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими.
Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне.
13 сентября. Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь.
14 сентября. 4-й час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне.
Конечно, это выборка из дневника, здесь только то, что касается Сони. Но объективно – именно она становится главной темой записей этого времени. Именно она занимает все его мысли. При этом он продолжает навещать Тютчевых. Но очевидно, что он уже влюблен в Соню. Об этом, в частности, пишет автор прекрасной книги «Любовь в жизни Толстого» Владимир Жданов: «Прежде всего поражает темп, в котором развиваются события. Шесть лет тому назад, когда Лев Николаевич собирался жениться на Арсеньевой, он несколько месяцев потратил на изучение ее характера и предъявлял к ней самые высокие требования. Теперь же все произошло в несколько недель».
И, скажу вам откровенно, мне немного обидно за Толстого! Он так долго выбирал себе невесту. Он так ответственно к этому подходил. И вдруг – простите! – какая-то дочь московского врача положила его на лопатки за три недели! И – как? Дав ему прочитать свою повесть. То есть победила его на его же поле.
К.Б./ А я смотрю на эти записи Льва Николаевича, и мне, в отличие от вас, радостно за него! Во-первых, он испытал такое чувство, которое не вмещалось в его привычно-отведенное для подобного чувства пространство. Во-вторых, он встретил женщину, которую не смог логически объяснить. В-третьих, все его мучения закончились взаимной любовью. Мне трепетно смотреть, как теплое ощущение себя рядом с женщиной побеждает страх и уверенность в невозможности любить. Такие моменты в жизни человека неповторимы.