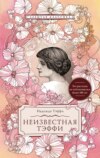Kitabı oku: «Странствие по таборам и монастырям», sayfa 5
– Так с кем из них ты дружишь? – спросила Тасуэ, пропустившая в целом рассказ мимо ушей.
– По возрасту я зависаю где-то между Джимом и Тедди. Но дружу с Джимом. И с Ванной, – ответил Мельхиор. – С удовольствием дружил бы и с Тедди, но слово «дружба» как-то не вяжется с этим малолетним экстрасенсом. Тедди кажется мне очень замкнутым ребенком. Кто знает, что из него вырастет? Может быть, он станет великим целителем? Может быть, заложит новую религию? Может быть, в нем дремлет чудовище, от которого весь мир содрогнется? Даже не знаю. Его кое-кто побаивается. Но только не Джимми! Джимми в восторге от сына и носится с ним как с писаной торбой. Впрочем, присущая им обоим скрытность позволяет им избежать какого-либо общественного внимания. О способностях Тедди не знают ни публика, ни административные власти.
– Кто же о них знает?
– Только друзья Джима и Ванны, такие как я. Небольшой круг верных приятелей и приятельниц. À propos…
Глава восьмая
Приятель и Ницца. Анимация
Мельхиор осекся на полуслове, потому что вдруг пред ним предстали те, о ком он рассказывал. Они в этот момент поравнялись с иллюминированным порталом большого кинотеатра, где, как выяснилось, проходил в эти дни небольшой фестиваль анимационных фильмов. Портал был декорирован гигантскими фигурами мультипликационных персонажей, а у самого входа стояли четыре живые человеческие фигуры, одетые в черное. Их черная одежда выделялась на фоне ярких героев рисованного экрана, более того, если присмотреться, можно было заметить, что эти четверо не только одеты в черное, но у каждого из них на рукаве была повязана траурная лента.
Двое мужчин, высокий и среднего роста, мальчик лет тринадцати и высокая женщина, точнее старуха. Именно последняя из этих фигур – старуха – заставила Тасуэ уставиться на эту группу испуганными и изумленными глазами: это была та самая старуха, что атаковала Зою Синельникову у входа в итальянский ресторан. Ошибиться было невозможно – это была она, хотя теперь ничего бомжового или кликушеского более не просвечивало в ее облике: она стояла прямо как скала, вытянув вдоль тела руки с огромными красными пальцами, одетая в солидное, даже дорогое черное платье.
Лицо старухи тоже напоминало обветренную приморскую скалу, на чьих уступах гнездиться могут только чайки и скорбь. Рядом со старухой стоял полный лысый невысокий человек с пышными усами и крупными янтарными очами, которые казались заплаканными. Это был Марк Прыгунин, знаменитый мультипликатор, только что прибывший из Москвы после похорон своего сына Кирилла, погибшего на съемках фильма «Курчатов».
Следующим в этой короткой гирлянде персонажей возвышался светловолосый и длинноликий господин, безупречно облаченный в черную униформу СС, с той только разницей, что фашистская символика заменена была здесь знаками моря: вместо орденов на черном кителе блестели яркие веточки кораллов, а на шелковой нарукавной ленте место свастики занимала океаническая ракушка – аммонит.
Рядом с ним стоял, глядя куда-то в сторону, хрупкий и угрюмый мальчик в черной футболке и черных широких штанах.
Все четверо узнали Мельхиора одновременно, но реакция воспоследовала разная: на лице старухи ни одна морщинка не дрогнула, мальчуган вдруг быстро перекрестился, эсэсовец просиял белозубой улыбкой, а лысый усач порывисто шагнул к Мельхиору, крепко его обнял и внезапно горько расплакался, уронив ему на плечо свою круглую, как бильярдный шар, голову.
– Они убили… – шептал он сквозь слезы. – Они убили Кирюшу… Кирюшеньки… Кирюшеньки больше нет…
Эта новость застала Мельхиора врасплох. Последнюю неделю, увлекшись прекрасной японкой, он не заглядывал ни в интернет, ни в газеты, ни разу не включил телевизор, пребывая в неведении о новостях.
А новости оказались мрачные. Убили Кирюшу Прыгунина, которого Мельхиор знал чуть ли не с младенчества. Когда-то малышами они вместе надували воздушные шарики, пускали мыльные пузыри, гоняли мячи, вращали глобусы – короче, развлекались с предметами шарообразной формы.
– Как это случилось? Кто это сделал? – спросил Мельхиор.
– На съемках. Прямо на съемках. Они репетировали сцену расстрела в подземной тюрьме, один актер выстрелил в Кирюшеньку. Пистолет должен был быть сценический, а оказался настоящий. Кто-то подменил пистолет. И вот… Нет с нами больше Кирюшеньки… И никто не снимет те фильмы, о которых он мечтал, которые задумывал. Джимми и Тедди расскажут тебе больше, они были там, на этих съемках.
– Кира пригласил нас с Тедди сыграть эпизодические роли, – сказал Джим Совецкий, в свою очередь обнявшись с Мельхиором. Затем, будучи вежливым и светским человеком, он повернулся к японке и произнес по-английски:
– Извините, что мы все кудахчем на нашем родном языке, у нас случилось большое горе. Это Марк, у него убили сына.
Японка выразила свои соболезнования.
– А это Тедди. А это…
– Меня зовут Новогодняя Старуха, – произнесла старуха, пожимая руку Тасуэ и при этом твердо глядя в ее черные глаза.
– Как?
– Новогодняя Старуха.
Глава девятая
Сказки Новогодней Старухи
Фестиваль рисованных фильмов, проходивший в Ницце, посвящен был главным образом достижениям советской мультипликации за весь период от возникновения СССР вплоть до так называемой перестройки. Показывали черно-белые мультики времен войны с фашизмом, мутноватые, рваные, но величественные. Нарисованный Гитлер корчился на экране, давясь колючей красной звездой. Показывали хокусаевские сталинские сказки, плавные, озвученные мистическими голосами, где ландшафты, березы и лебеди вылетали из широких рукавов русских боярынь. Показывали разбитные и звенящие мультики времен оттепели шестидесятых годов, бодрые, как удар кукурузного початка о начищенный черный ботинок. Показывали ворчливые и самокритичные мультики брежневской поры, где популярный водяной пел скрипучим голоском:
Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной.
Эх, жизнь моя – жестянка,
Да ну ее в болото!
Позднее это зачарованное болото, наполненное волшебными, разочарованными и остроумными существами, стали отождествлять с квазиполитическим словечком zastoj.
Но застой закончился, начался отстой. Мир нарисованных и подвижных существ рухнул в преисподнюю рекламы, пропитал собой клипы. На этом фестивале, в самые первые его дни, Марк Прыгунин (еще не знавший тогда об убийстве Кирюши) произнес речь, и некоторые аспекты и детали этой речи, безусловно, бросают пестрый свет, похожий на отражение цветного мультфильма в мокрых черных резиновых сапогах, на хитросплетение событий, которое нам предложено изложить в повествовании, названном «Странствие по таборам и монастырям».
Глава десятая
Невидимый солдат
Сделавшись случайным свидетелем странного убийства кинорежиссера Прыгунина, Цыганский Царь испытал острую вспышку паранойи. На следующий день после злополучных событий он не выходил из дома, даже с кровати не вставал, причем, несмотря на жару, завернулся зачем-то в несколько одеял, что превратило его в своего рода шелкопряда в коконе. Он с удовольствием и в самом деле стал бы шелкопрядом, но не мог, а вместо этого лежал неподвижно, потел и терзался самыми жуткими мыслями. Сто тысяч чудовищных подозрений и гипотез посетили его мозг. То ему казалось, что убийство Прыгунина как-то связано с цыганскими спецслужбами (а он казался себе завербованным этими спецслужбами, о существовании которых еще три дня назад не подозревал), то ему мнилось, что обвинят в убийстве именно его, или же он утверждался во мнении, что силы, уничтожившие Прыгунина, обязательно оборвут и его собственную жизнь, которая скромно забилась в кокон, ушла под пласты войлока и шерсти. Они, эти неведомые и беспощадные они, хотят во что бы то ни стало прервать его жизнь, которая ничего не желает, ничего не требует, ни на что не претендует, они хотят прервать жизнь, которая готова отказаться от короны, от легенды, от галлюцинации, готова свернуться и завернуться сама в себя – жизнь, которая желает быть кроткой, чтобы не стать краткой. Так он пролежал весь день, но когда повеяло ночной прохладой, в голове у него стало немного проясняться, и несколько более реалистичные мысли явились в его сознании. Во-первых, он сообразил, что раз произошло убийство, значит, будет и следствие, и, скорее всего, в ближайшее время его вызовут для дачи свидетельских показаний, и этого хотелось бы избежать. Во-вторых, кому бы ни пришло в голову его разыскивать, искать его будут именно здесь, по месту прописки.
– Надо уехать, – сказал он себе и встал.
Он открыл платяной шкаф, где много накопилось одежды и обуви – в основном совершенно ненужные вещи. Там разыскал он пару чужих резиновых сапог, в одном из которых лежали его паспорт и маленькая, но все же кое-какая сумма мятых денег.
Засунув все это в карман куртки, Це-Це вышел из квартиры, не обременившись никаким подобием сумки или рюкзака. Подался он прямиком на вокзал, быстро купил плацкартный билет на ближайший поезд, уходящий в южном направлении. И через очень недолгое время он уже ехал на юг вместе с поездом, набитым множеством других людей – спящих и бодрствующих, пьяных и трезвых, которые так же всей своей массой стремились к югу, и не потому что их кто-то преследовал, не потому что с ними произошли какие-то подозрительные события, а лишь потому что стояло лето и наступила пора отпусков и каникул, и людям хотелось отдохнуть, окунуться в море, полежать на горячем песке, укрепить здоровье детей или же напиться вдрызг в приморском заведении.
В этом поезде среди человеческой сгущенности, волн детских капризных вскриков он словно бы очутился в длинной коллективной комнате, впитавшей в себя атмосферические фрагменты всех коллективных комнат, какие только можно вообразить себе в нашей бывшей стране: от ясельных зальчиков, залитых младенческим абрикосовым светом, и вплоть до казарм, тюрем, больниц.
Здесь паранойя покинула его и сменилась безутешным и абсолютным отчаянием. Он лежал на боковой поездной полке одетым, не сняв даже куртку, потому что ему казалось, что, несмотря на удушливую вонь и духоту, какие-то длинные извивающиеся сквозняки язвительно терзают его страдающее тело. Он отчетливо ощущал, что нечто обрушилось в его душе, но что именно обрушилось и почему оно вдруг рухнуло и рассыпалось? Он не знал, что именно обрушилось и рассыпалось, знал только, что и до этого момента это нечто существовало в нем в весьма шатком состоянии, это нечто напоминало высокую стопку книг, нестойкую в силу того, что внизу лежали книги небольшого формата, сверху же громоздились слои тяжеловесных фолиантов. Эта стопка была обречена на падение, как, впрочем, и каждая человеческая жизнь. Ему вспомнилась концовка горестного стихотворения, которое написал Гумберт Гумберт, герой набоковской «Лолиты»:
Икар мой хромает, Долорес Гейз,
Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
А все прочее – ржа и рой звездный.
Гумберт умирал, потому что его Лолита убежала от него, но у Цыганского Царя не было даже утраченной Лолиты, у него вообще никогда и ничего не было: не было родителей, не было возлюбленной, не было даже врагов. Никто никогда не преследовал его, и сам он никогда никого не преследовал.
У него не было даже свободы, потому что нечто невидимое постоянно сдавливало и сжимало его со всех сторон. Невидимое. Да, пожалуй, все было в его жизни, просто оно пребывало невидимым. Ведь неправда, например, что у него не было родителей, – они были, иначе бы он и вовсе не появился на свет, просто он их никогда не видел. Соответственно, у него были невидимые мать и отец. Он никогда не встречал ни одного своего родственника, но, видимо, толпы невидимых родных постоянно теснились вокруг него. Неправда, что у него не было возлюбленной, у него имелось множество невидимых возлюбленных. Следовало сделать всего один шаг, чтобы окончательно воплотиться в этом невидимом мире – самому стать невидимым. Но разве он и так не был невидимым?
Все существующее в действительности непрочно, зыбко, текуче, и ни на кого нельзя опереться. Душа человеческая опирается лишь на несуществующее, ибо пустота – единственный надежный фундамент, на котором человек возводит строение своей души. Этот парень вообразил себя Цыганским Царем, опираясь всего лишь на случайно брошенное кем-то и ничем не обоснованное заявление, что его родители были цыганами. Скорее всего, некто просто пошутил – во внешности Цыганского Царя, во всяком случае, не наблюдалось ничего цыганского. На самом деле он понимал, что к цыганам не имеет никакого отношения. Но цыгане – народ без территории, без страны, и тем самым они чем-то родственны тому гигантскому, молодому и в то же время уже вымирающему народу, который тоже оказался народом без территории, – народу советскому. Это народ с самой необычной судьбой – он родился и тут же умер, умер ребенком, а ведь известно, что души умерших детей святы и попадают в рай. И все же все люди, родившиеся в Советском Союзе, и даже дети их, и даже внуки их – все они до сих пор часть этого несуществующего народа, и это обстоятельство, безусловно, определяет не только лишь земное существование этих миллионов, но также их загробную жизнь.
В какой-то момент Цыганский Царь все-таки уснул, и ему приснилось, что по вагонам сквозь спящих и бормочущих людей пробирается невидимый солдат. Солдат без облика и без армии, солдат вне мира и войны. Он сам и был этим невидимым солдатом, дезертировавшим с невидимого фронта. Он был этим солдатом всегда, он стал им задолго до того, как воцарился над невидимыми кочевыми кибитками, задолго до своего появления на свет, задолго до того, как люди завелись, будто плесень, на поверхности ювелирной планеты. Невидимый солдат существует с тех незапамятных времен, как в мире появилась соль, он, собственно, и есть желание соли – антижажда, отраженная в кристаллах, та химическая нехватка, та потребность, что заставляет животных преодолевать значительные расстояния с одной лишь целью – лизать соль. В Тибете яки проходят сотни километров, стремясь к твердому и слоистому соляному озеру. Так и солдат – он всегда просит соль дать.
Це-Це проснулся на рассвете, когда красные лучи восходящего солнца пробивали поезд насквозь, окрашивая в кроваво-золотой цвет псевдотрупы спящих людей, распластавшихся на своих полках в самых откровенных позах: дети чмокали и урчали во сне, приоткрыв свои влажные рты, женщины озабоченно хмурили брови в ответ на свои сновидения, которые не освобождали их от повседневного страха за детей, юные девушки доверчиво переплетались с простынями, как с любовниками, мужики храпели и рычали, не пробуждаясь, выставляя напоказ огромные животы, живущие собственной и независимой жизнью (в отличие от их обладателей, эти животы не спали, продолжая сражаться с поглощенной пищей и алкоголем), старики и старухи цепенели, уткнув в сырые вагонные подушки свои морщинистые лица, словно кротко целуя весенний подмокший снежок на своих будущих могилах, и только Це-Це бодрствовал в этот ранний час, одинокий, как Христос среди спящих апостолов.
Це-Це любил всех этих людей, но не слишком любил свою любовь к ним: он считал свою любовь к людям бездеятельной, ненужной и чересчур хрупкой, временами он даже усматривал в этой любви элементы непозволительной роскоши, в глубине души он полагал, что его самого, по сути, нет, а они есть, и он не знал, полезна ли тем, кто есть, любовь того, кого нет. Он был невидимым солдатом, а слово «солдат» на самом деле происходит не от слова «соль», а от слова «один» (solo), и хотя народ и говорит, что один в поле не воин, но народ неправ, потому что слово «соль», как и сама соль, рождается (выпаривается) солнцем, а слово «солнце» (sole) также происходит от одиночества – собственное сияние обрекает светило на то, чтобы казаться одиноким воином в полнеба, но когда сияние слабнет, тогда мы видим множество солнц. Таким образом, одиночество всегда иллюзорно, его не существует; а значит, оно – удел несуществующих, к коим Це-Це причислял и себя.
За окошком поезда одинокое красное солнце вставало над солончаками, над мелкими и безжизненными водоемами, получившими название «гнилое море», – к вагонным смрадам примешивался запах сероводорода, тухлая вонь, пропитавшая собой эти края.
Поезд внезапно остановился, хотя никакого селения или станции не виднелось. Никто не проснулся. За разбитым окошком двое разбитных загорелых мальчиков орали, размахивая двумя огромными плоскими засоленными рыбинами, напрасно пытаясь привлечь внимание спящих к своему товару. Це-Це вышел в тамбур покурить. Закурил суровую «Ватру». Дверь поезда была открыта и задвинута ведром.
Це-Це спрыгнул на хрустящую насыпь, грубо оттолкнув мальчугана с рыбиной, произнося магическое слово «отвали».
После чего он пошел куда-то в глубину просторного, плоского и мертвенного ландшафта. Здесь не тот был юг и не то море, куда стремились будущие отдыхающие. Здесь ничего не было, и сюда никто не стремился. Здесь его никто искать не станет, да его нигде никто искать не станет. А впрочем… Он вспомнил холеные цыганские лица Августа Второго и Фрола Второго. Эти ребята могут, наверное, и здесь разыскать. Це-Це вдруг рассмеялся и ударил ногой по сухой земле.
Цыганские спецслужбы! Хуйня полная. Ни на секунду не поверил он в реальность цыганских спецслужб. Це-Це цыган не знал, но был убежден, что они слишком мудры, чтобы обзавестись таким параноидальным излишеством, как спецслужбы. Спецслужбы нужны властям, а у цыган нет властителей, за исключением одного одинокого царя-солдата, курящего «Ватру». «Ватра» – не ватрушка.
Но кто же, однако, убил Кирюшу Прыгунина? Да мало ли кто мог его убить? Убивают обычно из-за денег, а съемки фильма – пусть и не нефтяная биржа, но денег там вращается немало. Возможны завистники молодого таланта. Возможна всегда ревность. Возможны сумасшедшие люди, одержимые страстью к убийствам. Возможна, наконец, трагическая случайность. Возможна даже шутка, хотя это вряд ли.
Глава одиннадцатая
Шутка и мундштук
Я знаю много разных мотивов для убийства:
в девяти случаях из десяти это материальная заинтересованность, иногда ненависть, часто любовь, но шуток еще никогда не было.
Жорж Сименон. Мегрэ и дело Сен-Фиакр
У совершенно спокойного человека могут быть нервные ноги.
Там же
– Кто же, однако, убил Кирюшу Прыгунина? – спросил Мельхиор Платов, обращаясь к своему приятелю Джимми Совецкому.
Они беседовали наедине, вполголоса, в том самом дешевом итальянском ресторанчике, где и началось наше повествование. Снаружи опять шел дождь, и в этот час они оказались здесь единственными посетителями. Они сидели друг напротив друга за столиком, застеленным скатертью в крупную красную клетку. Никакой еды не заказали, а только лишь бутылку простого красного вина.
– Да мало ли кто мог его убить, – ответил Джимми. – Убивают обычно из-за денег, а съемки фильма пусть и не нефтяная биржа, но денег там вращается немало. Возможны завистники молодого таланта. Возможна всегда ревность. Возможны сумасшедшие люди, одержимые страстью к убийствам. Возможна, наконец, трагическая случайность. Возможна даже шутка, хотя это вряд ли.
– Ну это вряд ли, – возразил Мельхиор.
– Да, маловероятно. Хотя когда Сэгам убил Уорла Таппертройма, это была в каком-то смысле шутка.
– Я бы это шуткой не назвал.
– А как бы ты это назвал? У Сэгама не имелось никаких мотивов, он даже не испытывал ни капли неприязни к Таппертройму. Он убил его просто так, для забавы, чтобы всех удивить.
– Сэгам – настоящий трахнутый ублюдок.
– В Америке ты так не говорил, Мельхиор. В Америке ты говорил, что Сэгам – классный парень.
– Сожалею о своей тогдашней тупости. Честно говоря, Джимми, я с удовольствием забыл бы обо всем, что было в Америке. Я бы все свои бабки отдал (хотя отдавать особо нечего), чтобы навсегда забыть эти имена: Дален, Франковский, Сэгам, Таппертройм, Тачев, Кэчуотер…
– А Мардж Блум? Ты и ее хотел бы забыть?
– Да, ее тоже.
– Она ведь тебя так любила, Мельхиор.
– И я ее любил. Но мы уже не в Америке, Джимми. Мы с тобой вернулись в родную Европу, здесь нам и место. Пора, говорю, забыть о том, что с нами происходило в Америке.
– А я вот не хочу ни о чем забывать, Мельх.
– Я слышал, тебя ведь и самого чуть не пристрелили, Джим. Надеюсь, тебя это чему-то научило?
– А чему это может научить? Осторожности? Но спасает не осторожность, а случайность, воплощающая в себе волю богов. Меня вот спас мундштук.
– Мундштук?
– Да, мундштук. В меня стреляли ночью, в саду, когда я вышел покурить. В ту ночь стояла непроглядная тьма. В меня стреляли через ограду сада, целясь в огонек от сигареты. В тот вечер старик Эснер подарил мне мундштук – длинный, черепаховый. Эснер сказал, что чем длиннее мундштук, тем меньше вред, причиняемый сигаретой. Я тогда не придал значения его словам, вышел покурить, стою, пялюсь в темноту, шарю по карману в поисках сигарет и зажигалки, – и тут рука моя вдруг находит в кармане этот мундштук. Ну я и решил испробовать его. Если бы я закурил ту сигарету без мундштука, то стал бы трупом. Пуля свистнула совсем близехонько от моей головы.
– Ого. С тех пор, полагаю, ты куришь сигарету исключительно через мундштук?
– С тех пор я вообще не курю.
– Понимаю. И все же кто убил Кирюшу Прыгунина?
– Не знаю.
– Так узнай.
– Как же мне прикажешь узнать об этом?
– Будто ты сам не догадываешься, как узнать. Спроси своего сына Тедди, он ведь все знает.
Князь Совецкий встал, возвысившись, словно колонна, над клетчатым столом.
«Вот ведь верста коломенская, – подумал Мельхиор, глядя на него. – Все в нем длинное: ноги, пальцы, нос, лицо, шея, даже уши. Поэтому длинный мундштук спас его. Закон формального единства».
– Тедди знает все, – сказал Джим, – он может ответить на любой вопрос. Может… Но захочет ли?
– Ты его отец, спроси его.
Совецкий медленно и отрицательно покачал своей длинной головой.
– Нет, Мельхиор. Я принципиально никогда не пользуюсь медиумическими талантами своего сына. Спроси его сам об этом, если хочешь.
– Спрошу, – пообещал Мельхиор, подумав.
– Спроси, может быть, он и ответит тебе. Мой сын – существо таинственное и непредсказуемое. А теперь я, отец дельфийского оракула, прощаюсь с тобой, о взыскующий правды. Увидимся позже, аллигатор.
– Прощай, светлейший князь. Передавай привет темноте.