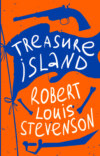Kitabı oku: «Берег Фалеза», sayfa 4
– Я, Мисси, объясняю так, – сказал Нему. – Европейское государство – государство папы, и дьявол «Дурной Глаз» может быть дьяволом католическим или, по крайней мере, обычаи у него католические. Я и рассудил: если употреблять крестное знамение на католический лад – это будет грешно; а если прибегать к нему только, чтобы защитить людей от дьявола, что само по себе безвредно, то и самое крестное знамение безвредно. Как бутылка, в которой нет ни хорошего ни дурного, так крестное знамение ни хорошо ни дурно. Если бутылка полна джином – дурен джин, и если делать крестное знамение как язычник, – дурно язычество. – И, как подобает туземному пастору, он привел текст об изгнании бесов.
– Кто вам сказал о «Дурном Глазе»? – спросил я его.
Он признался, что ему сказал Кэз. Боюсь, что вы сочтете меня ограниченным, мистер Уильтшайр, но, признаюсь, меня это огорчило. Я не допускаю мысли, чтобы купец, каким бы он хорошим человеком ни был, мог советовать или иметь влияние на моих пасторов. Кроме дого, ходили слухи о старом Адамсе, о его отравлении, ему я не придавал большого значения, а в эту минуту я припомнил их.
– А этот Кзз, – говорю, – праведную жизнь ведет?
Он признался, что нет, потому что он хотя и не пьет, но развратничает с женщинами и религии не имеет.
– В таком случае, – говорю, – я думаю, что чем меньше вы будете с ним, тем лучше.
Но не так-то легко было отделаться от такого человека, как Нему. У него сию же минуту была готова картина.
– Вы, Мисси, рассказывали, что бывают люди – не пасторы, не священники, – которые знают много такого, что полезно знать: о деревьях, например, о животных, о книгопечатании, о металлах, которые обжигают для выделки из них ножей. Такие люди учили вас в вашем колледже, и вы, научившись от них, не можете считать, что учиться грешно. Кэз, Мисси, это мой колледж.
Я не нашелся, что ему сказать на это. Вигуру пришлось уехать из Фалеза, очевидно, по проискам Кэза, при весьма вероятном соучастии моего духовника. Я вспомнил, что Нему же успокоил меня относительно Адамса и приписал слухи злобе пастора. Я понял, что мне следует навести справки из беспристрастного источника. Есть здесь старый плут старшина Фейесо, которого вы, вероятно, видели сегодня на совете; он всю свою жизнь был беспокойным и пройдохой, и колючкой для миссии и острова. Но, несмотря на это, он весьма проницателен и, исключая политику и личные проступки, правдив. Я пошел к нему, рассказал ему, что слышал, и просил его быть откровенным. Я не думаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось иметь более неприятное свидание. Вы, быть может, поймете меня, мистер Уильтшайр, если я вам скажу, что отношусь совершенно серьезно к сказкам старых баб, которые вы мне поставили в упрек, и так же забочусь о благе этих островов, как заботитесь вы о покровительстве вашей миленькой жены. Припомните, что я считал Нему образцом, что я гордился им, как первым зрелым плодом миссии. И вот мне говорят, что он подпал под влияние Кэза. Начало его не было развращающим; оно началось, несомненно, со страха и уважения, вызванных плутовством и притворством, но меня возмутило, что сюда примешался другой элемент, что Нему сам вздумал заниматься торговлей и сильно задолжал Кэзу. С трепетом слушал он все, что говорил ему купец; что не только он один, но многие в селении находятся в подобном подчинении, хотя наибольшее влияние имело положение Нему, так как Кэз мог делать больше зла через Нему, и, имея последователей среди старшин и пастора в своей власти, этот человек стал чуть не властелином деревни. Вам известно кое-что о Вигуре и Адамсе, но, вероятно, не приходилось слышать о предшественнике Адамса – Ундерхилле. Это, помню, был спокойный, кроткий старикашка. Нам сообщили о его скоропостижной смерти – белолицые очень часто умирают скоропостижно в Фалеза. У меня кровь застыла в жилах, когда я узнал правду. Его разбил паралич. Все в нем умерло, кроме одного глаза, которым он постоянно подмигивал. Народ напугали, что беспомощный старик стал дьяволом, а этот негодяй Кэз нагонял ужас на туземцев, притворно разделяя страх и уверяя, что не смеет идти к нему один. Наконец, в конце деревни выкопали могилу и похоронили в ней живого человека. Мой пастор Нему, воспитанник мой, возносил молитвы при этой гнусной сцене.
Я сам чувствовал себя в затруднительном положении. Может быть, я обязан был обвинить Нему и сместить его. Может быть, я так думаю теперь, но в то время это казалось менее ясным. Он пользовался большим влиянием, оно могло оказаться сильнее моего. Туземцы склонны к суеверию, и, возмутив их, я, быть может, только поддержал и распространил бы эти опасные фантазии. Нему, кроме того, вне этого проклятого влияния был хорошим пастором, способным и религиозным человеком. Где мне взять лучшего? Как найти такого же хорошего? В ту минуту, когда, падение Нему было только что обнаружено, весь труд моей жизни показался мне насмешкой, надежда умерла во мне. Я охотнее исправил бы явных дураков, чем отправляться на поиски других, которые, наверно, окажутся еще хуже. Самое лучшее – избежать скандала, если это только возможно. Справедливо или несправедливо, я решил покончить дело мирным путем. Всю ночь я беседовал с заблуждающимся пастором, укорял его в невежестве и недостатке веры, в непристойности его поступка, в грубом содействии убийству, в наивном возбуждении из-за пустяков. Задолго до рассвета он уже стоял на коленях и заливался горючими слезами, по-видимому, искреннего раскаяния. В воскресенье утром я с кафедры сказал проповедь о первых царях, о вспыльчивости, о землетрясениях, о голосе, отличающем истинную духовную силу, и упомянул, насколько мог откровенно, о последнем событии в Фалезе. Эффект получился сильный, но он еще возрос, когда Нему, в свою очередь, взошел на кафедру и сознался, что в нем недостает веры и умения руководить, и признал свой грех. Пока все шло хорошо, но тут примешалось одно несчастное обстоятельство. Приближалось время нашего, здешнего «мая», когда туземцы вносят миссионерские подати. Мне выпала на долю обязанность упомянуть об этом, что дало моему врагу шанс, которым он не замедлил воспользоваться.
Весь ход дела был сообщен Кэзу сейчас же по окончании службы, и он в полдень улучил случай встретиться со мною среди деревни. Он шел с таким решительным враждебным видом, что я почувствовал неудобство избегнуть его.
– Вот святой человек! – сказал он на туземном языке. – Он проповедовал против меня, но этого не было в сердце его. Он проповедовал любовь к Богу, но это было у него только на языке, а не в сердце его. Хотите знать, что было в сердце его? – крикнул он. – Я вам покажу! – И, проведя рукой по моей голове, он сделал вид, что поймал доллар и поднял его на воздух.
В толпе поднялся тот шум, каким полинезийцы встречают чудо.
Что до меня касается, я был озадачен. Это был самый заурядный фокус, который я двадцать раз видел на родине; но как убедить в этом поселян? Я пожалел, что не учился фокусам вместо еврейского языка, чтобы иметь возможность отплатить этому плуту его же монетою. Молчать было нельзя, но лучшее, что я нашел сказать, было слабо.
– Я побеспокою вас просьбою не дотрагиваться до меня, – сказал я.
– Я и не думаю, – ответил он, – и не желаю лишать вас ваших долларов. Вот он! – сказал он, швырнув доллар к моим ногам.
Мне говорили, что он пролежал три дня на том месте, где упал.
– Я должен сказать, что это было ловко сделано, – заметил я.
– О, он умен, – сказал мистер Терльтон, – и сами можете судить, насколько опасен. Он был виновником ужасной смерти разбитого параличем, его обвиняют в отравлении Адамса, он выжил отсюда Вигура ложью, которая могла довести до убийства, и, вне всякого сомнения, порешил отделаться от вас. Каким образом он думает это сделать, нам не угадать, только, будьте уверены, это что-нибудь новое. Его изобретательности и находчивости конца нет.
– Он сам как будто боится, – сказал я. – Но чего же, в конце концов?
– А сколько тонн копры можно добыть в этом участке? – спросил миссионер.
– Пожалуй, тонн шестьдесят, – сказал я.
– Какой барыш для местного торговца? – спросил он.
– Можете считать три фунта, – сказал я.
– Ну, и рассчитайте, сколько он получит, – сказал мистер Терльтон. – Но гораздо важнее расстроить его замыслы. Он, очевидно, распустил какие-нибудь слухи про Умэ, чтобы изолировать ее и удовлетворить свое беззаконное желание. Потерпев неудачу и видя появление на сцене нового соперника, он воспользовался ею иначе. Теперь нужно прежде всего узнать относительно Нему. Умэ, как поступил Нему, когда люди отступились от вас и вашей матери?
– Ушел прочь, – ответила Умэ.
– Боюсь, как бы он снова не принялся за старое, – сказал мистер Терльтон. – Что я могу для вас сделать? Я поговорю с Нему, предупрежу его, что за ним наблюдают. Будет очень странно, если он допустит что-либо, когда ему велели быть настороже. В то же время предупреждение может не удаться, и тогда вам нужно обратиться к кому-нибудь другому. У вас имеются под рукою двое, к которым вы можете обратиться: во-первых, патер, который может защитить вас в интересах католицизма; католиков здесь очень мало, но в их числе двое старшин, а затем старик Фейезо. Будь это несколько лет назад, вам никого бы не надо было, кроме него; но в настоящее время его влияние значительно ослабло, перешло в руки Миа, а Миа, боюсь, не из шакалов ли Кэза. Наконец если дело примет худший оборот, пришлите кого-нибудь или приезжайте сами в Фалэ-алии, и хотя я не должен быть в этой части острова раньше, чем через месяц, я посмотрю, что можно будет сделать.
Так простился мистер Терльтон. Полчаса спустя в лодке миссионера пели матросы и сверкали весла.
Глава IV
Дьявольская работа
Прошло около месяца, и сделано было немного. В вечер нашей свадьбы к нам зашел Галош; он был чрезвычайно любезен, и с тех пор у него вошло в привычку заглядывать к нам, когда стемнеет, и выкуривать свою трубку. Он, конечно, мог беседовать с Умэ и в то же самое время усердно учил меня туземному и французскому языкам. Он представлял из себя нечто вроде старого шута, самого грязного, какого вы только можете себе представить, и туманил меня иностранными языками хуже чем во время вавилонского столпотворения.
Это было нашим развлечением, и я чувствовал себя менее одиноким, хотя пользы от него не было, потому что, несмотря на то, что он приходил, сидел, болтал, в магазин нельзя было заманить ни одного из его прихожан, и если бы я не принялся за другое занятие, то в доме не было бы ни фунта копры. У Февао, матери Умэ, было штук двадцать производительных деревьев. Работы у нас, как у отверженных, никакой не было, и вот мы, обе женщины и я, стали выделывать копру собственноручно. Копра такая получалась, что просто слюнки текли, пока ее готовили. Я до тех пор не понимал, как надували меня туземцы, пока не изготовил четырехсот фунтов собственными руками; а легка была моя копра до того, что я охотно сам бы принялся за ее вымочку.
Во время работы канаки забегали иногда посмотреть на нас. Как-то один раз пришел и Черный Джек. Он стоял среди толпы туземцев, хохотал, корча веселого комика и большого барина. Меня это взбесило.
– Слушайте, эй вы, Черный Джек! – крикнул я.
– Не с вами говорят, саа!4 – откликнулся негр. – Я разговариваю с джентльменами.
– Я знаю. Да я-то обращаюсь к вам, мистер чернокожий, – сказал я. – Я желаю знать, видели ли вы головное украшение, полученное Кэзом с неделю тому назад.
– Нет, саа, – ответил он.
– Прекрасно! В таком случае, я сейчас вам покажу его родного брата, только чернокожего, и покажу через две минуты!
Я стал медленно подходить к нему с опущенными руками, и только в моих глазах отражалось волнение, если бы кто-нибудь потрудился посмотреть на них.
– Вы жалкий, хвастливый трус, саа, – сказал он.
– Увидите! – говорю.
Между тем он, вероятно, подумал, что я подошел достаточно близко, и так начал улепетывать, что ваше сердце порадовалось бы при виде его бегства. Так я больше и не видел этого презренного негодяя до той поры, о которой я собираюсь вам рассказать.
Одним из главных моих занятий была охота на кого попало в лесах, богатых всевозможной дичью, как говорил Кэз. Я упоминал о мысе, отгораживавшем с востока и деревню, и мое жилище. Тропинка вела вдоль него к ближайшей бухте. Тут дул ежедневно сильный ветер, и бурун набегал на берег бухты. Небольшой скалистый холм разделял долину на две части и прилегал к берегу. Прилив заливал его с наружной стороны, преграждая проход. Все это место было окаймлено лесистыми горами. К востоку границу составляли покрытые растительностью кручи, низшие части которых являлись вдоль моря просто черными утесами, испещренными киноварью; вершины же их состояли из глыб, поросших большими деревьями. Некоторые из них были ярко-зеленые, другие красные, а береговой песок черен, как ваши сапоги. Множество птиц, некоторые белоснежные, парили над бухтой, и среди бела дня летали, скрежеща зубами, вампиры.
Долгое время я ограничивался этой местностью и дальше не шел. Другой дороги и признака не было, и кокосовые пальмы у конца долины были, таким образом, последними, потому что все «око» острова, как называли туземцы его подветренную сторону, было пустынно. От Фалеза вплоть до Папа-малулу не видно было ни дома, ни человека, ни посаженного плодоносного дерева. Каменная гряда удалена, берега отвесные, океан бушует прямо среди утесов, – такое место едва ли может быть пристанью.
Я должен вам сказать, что, с тех пор как я стал ходить в лес, туземцы, не отваживаясь приближаться кмоему магазину, охотно проводили со мною часть дня там, где никто не мог их видеть. Я уж начал кое-что понимать по-туземному, а большинство из них знало несколько английских слов, так что я мог поддерживать отрывочный разговор, без особенной пользы, разумеется; но у них не было уже такого злобного чувства. Пренеприятная вещь быть принятым за прокаженного.
Раз, в конце месяца, я сидел с одним канаком у опушки леса, выходящего на восток. Я дал ему вволю табака, и мы беседовали как могли. Он действительно знал по-английски больше других.
Я спросил:
– Нет ли дороги на восток?
– Одно время был дорога, – сказал он. – Теперь он забыт.
– Никто туда не ходит? – спрашиваю.
– Нехорошо, – говорит, – очень много дьяволов живет там.
– Ого! – говорю. – Так этот лес полон дьяволов?
– Мужчина – дьявол, женщина – дьявол, очень много дьяволов. Все время там. Человек он пойдет туда, он не придет назад, – сказал мой приятель.
Я подумал: «Если человек так хорошо осведомлен о дьяволах и так свободно говорит о них, то не мешает выудить кое-какие сведения относительно себя и Умэ».
– Вы меня считаете дьяволом? – спросил я.
– Не дьявол, а все равно дурак, – сказал он успокоительно.
– Умэ, она дьявол? – спросил я снова.
– Нет, нет, не дьявол. Дьявол живет в лесу, – сказал молодой человек.
Я смотрел на бухту и видел, как передняя завеса лесов вдруг открылась, и на черный берег, освещенный солнечным светом, вышел Кэз с ружьем в руках. Он имел блестящий вид в своей легкой, почти белой куртке со сверкающим ружьем, и земляные крабы разбежались от него к своим норам.
– Эге, приятель, вы сказали мне неверно, – сказал я. – Эз пошел, но пришел назад.
– Эз не то же самое. Эз – Тиаполо, – сказал мой друг и со словом, «прощайте» скрылся среди деревьев.
Я проследил, как Кэз прошел берегом и мимо меня домой в Фалеза. Он шел, задумавшись, что должно быть знали птицы, бегавшие около него по песку или кружившиеся и щебетавшие у него над самым ухом. По движению губ я понял, что он разговаривает сам с собой, а чем я был ужасно доволен, так это тем, что у него еще виднелось на лбу мое торговое клеймо. Скажу по правде, мне пришло в голову пустить ружейный заряд в его противную рожу, но у меня было лучшее намерение.
И здесь, и по дороге домой я все время твердил то туземное слово, которое я помнил по фразе: «Полли поставь котелок и приготовь нам чай» – теа-полло.
– Умэ, – спросил я, вернувшись домой, – что значит Тиаполо?
– Дьявол, – ответила она.
– Я думал, он называется Эту, – сказал я.
– Эту другой сорт дьявола. Живет в лес, есть канака. Тиаполо – важный, главный дьявол, живет дома как христианский дьявол.
– В таком случае, я дальше не подвинулся, – огорчился я. – Как может Кэз быть дьяволом?
– Не то, – пояснила она. – Эз принадлежит Тиаполо. Тиаполо очень любит Эза, все равно как сына. Положим, Эз что-нибудь хочет, Тиаполо ему сделает.
– Это очень удобно Эзу, – сказал я. – Что же он для него делает?
Последовал бессвязный рассказ всевозможных историй, из числа которых многие (вроде вынутого из головы мистера Терльтона доллара) были для меня совершенно понятны, но в других я ровно ничего не понимал. То, что больше всего удивляло канаков, меня удивляло меньше всего: а именно то, что он ходил по пустырю, населенном Эту. Некоторые из наиболее смелых сопровождали его и слышали, как он разговаривал с умершими, отдавал им приказания и невредимо возвращался, охраняемый покровителями. Некоторые говорили, что у него там есть церковь, где он поклоняется Тиаполо, и Тиаполо является ему; другие клялись, что колдовства тут вовсе нет, что он совершает чудеса силою молитв и что церковь вовсе не церковь, а тюрьма, в которой он содержит одного опасного Эту. Нему как-то раз ходил с ним в лес и вернулся, славословя Бога за эти чудеса. Наконец-то начало для меня выясняться положение этого человека и способы, которыми он достиг его, и хотя он был твердым орехом для раскалывания, я в уныние отнюдь не впадал.
– Отлично, – сказал я, – я сам пойду посмотреть на место поклонения мистера Кэза, и мы увидим, как он поклоняется.
При этом Умэ ужасно заволновалась. Если я пойду в лес, так никогда не вернусь: без покровительства Тиаполо туда никому нельзя ходить.
– Положусь на Божие покровительство, – сказал я. – Я хороший малый, Умэ, как мужчина, и надеюсь, Бог научит меня.
Она немножко помолчала.
– Я думаю, – начала она торжественно и затем скороговоркой докончила: – Виктория важный старшина.
– Еще бы! – сказал я.
– Она вас очень любит? – спросила она снова.
Я ответил осклабясь, что считаю старушку несколько пристрастной к себе.
– Отлично! – сказала она. – Виктория важный старшина и вас очень любит, а помочь вам в Фалезе не может – очень далеко отсюда. Миа – маленький старшина, живет здесь. Положим, он вас любит, он все вам сделает. Так вот Бог и Тиаполо: Бог – он важный, большой старшина, у него очень много дела; Тиаполо – маленький старшина, он тоже очень любит показывать вид, что много работает.
– Я бы сдал тебя в руки мистеру Терльтону, – сказал я. – Твое богословие невыносимо.
Как бы ни было, мы целый вечер разбирали это дело. Передавая мне истории о пустыне и ее опасностях, она сама пугалась чуть не до припадка. Я и четверти, конечно, не помню, так как придавал ее рассказам очень мало значения, но два из них послужили мне средством к разъяснению. Милях в шести вверх по берегу есть небольшая бухта, которую они называют Фанга-анана – гавань, полная пещер. Я сам видел ее с моря настолько близко, насколько мог уговорить своих молодцов подъехать к ней. Она представляет собою маленькую полоску желтого песка. Над нею висят мрачные скалы с темными жерлами пещер. Утесы покрыты огромными деревьями и спускающимися вниз лианами, а в одном месте, около середины, льется каскадом ручей. Ну, так вот около этого места ехало в лодке шестеро молодых людей фалезских, «все красивые», по словам Умэ, и это погубило их. Дул сильный ветер, волнение было на море большое. Они все устали, им хотелось пить, и вот они увидели Фанга-анана и светлый ручей. Решили причалить, добыть напиться – они все были народ смелый, безрассудный, кроме самого молодого, по имени Лоту. Он был очень молодой и очень умный господин и уверял, что они с ума сошли, говорил, что это место отдано духам, дьяволам и покойникам, что нет живой души ближе, чем на шесть миль в одну сторону и на двадцать миль в другую. Но они смеялись над его словами и, так как их было пятеро против одного, поехали, причалили и вышли на берег. Место было изумительно красивое, говорил Лоту, и вода превосходная. Они ходили вокруг, но нигде не было дороги, по которой можно было бы взобраться на утесы, что их успокоило, и они уселись у подошвы их угоститься привезенной провизией. Только они расселись, как из одной пещеры вышло шесть таких красавиц, каких вряд ли когда-либо можно было видеть, с цветами в волосах, прекрасной грудью и в ожерельях из красных семян. Они начали шутить с молодыми людьми, а те начали шутить с ними, все, кроме Лоту, Лоту, понимая, что живой женщины в таком месте быть не может, побежал, бросился в лодку, закрыл лицо руками и начал молиться. Молился он все время, пока дело не кончилось; потом пришли его приятели, подняли его и снова выехали в море из совершенно пустой бухты, и ни слова ошести дамах. Но что больше всего испугало Лоту, это то, что ни один из пятерых не помнил ничего из того, что произошло, только все они были как пьяные: пели, хохотали, боролись. Ветер усилился, и море поднялось необыкновенно высоко. Погода была такая, когда всякий островитянин поворачивает спину и бежит домой в Фалезу, а эти пятеро как сумасшедшие натянули все паруса и направили лодку в море. Работал один Лоту, никто и не думал помочь ему; все продолжали петь, спорить, говорили какие-то недоступные для понимания вещи, и говоря их, громко хохотали. Так весь остаток дня Лоту боролся за свою жизнь на лодке, облитый потом и холодною морскою водою, и никто не обращал на него внимания. Против всяких ожиданий, они в страшную бурю благополучно добрались до Папа-малулу, где пальмы скрипели, а кокосовые орехи летали как пушечные ядра вокруг деревни. В ту же ночь все пятеро молодых людей заболели, и ни одного разумного слова от них не слышали до самой смерти.
– Ты хочешь сказать, что веришь подобным рассказам? – спросил я.
Она ответила, что случай этот всем хорошо известен, а для молодых людей даже зауряден, только это был единственный случай, что пять молодых людей были сразу убиты любовью дьяволих. Это волновало весь остров, и надо было быть безумной, чтобы сомневаться.
– За меня тебе, во всяком случае, бояться нечего, – сказал я. – Мне дьяволихи не нужны: нужна мне единственная в мире женщина, и эта женщина – ты, женушка.
Она возразила на это, что бывают дьяволы в другом роде, что одного из них она видела своими собственными глазами. Отправилась она как-то раз к соседней бухте и подошла, вероятно, чересчур близко к нехорошему месту. Ветви высокого кустарника защищали ее от крутого склона холма; место было плоское, каменистое, заросшее молодыми яблонями четырех-пяти футов вышины. День был пасмурный, дождливого времени года; то порывы ветра обрывали листья и кружили их, то было совершенно тихо. Во время затишья, когда целые стаи птиц и вампиров кидались как напуганные существа из кустов, она услышала шорох, и из опушки появился между яблонями худой, седой, старый кабан. Он вышел задумавшись как человек. Она, увидя его, вдруг поняла, что это вовсе не кабан, а человек с человеческими думами. Тут она побежала. Кабан за ней, и в то время, как она бежала, слышны были громкие отклики кругом.
– Хотелось бы мне быть там в это время с ружьем, – сказал я. – Пожалуй, кабан так заорал бы, что и сам бы удивился.
Но она сказала, что ружье для подобных случаев не годится, так как это души умерших.
Самое лучшее было вести такой разговор вечером. Разумеется, он не изменил моих взглядов, и на следующий день я с ружьем и хорошим ножом отправился на обследование. Я ходил поблизости от того места, откуда вышел Кэз, потому что если у него действительно было что-нибудь устроено в лесу, то я мог рассчитывать найти тропинку. Начало пустыря обозначалось так называемою стеною, то есть просто искусственно устроенной оградой из груды камней. Говорят, ограда эта тянется через весь остров. Каким образом это узнали, это другой вопрос, так как вряд ли кто за сто лет совершал путешествие туда; туземцы главным образом держатся моря, и все их селения находятся вдоль берега, а та часть страшно высокая, крутая, скалистая. С западной стороны стены почва очищена, и тут растут и кокосовые пальмы, и восковые яблони, и гуява, и множество нетронь-меня. Лес начинается сразу. Деревья поднимаются высоко как корабельные мачты, лианы спускаются подобно снастям, а в разветвлениях растут похожие на губки дрянные орхидеи. Непоросшие места имеют вид кучи валунов. Я видел много молодых голубей, которых мог бы настрелять, да пришел-то я туда с иною целью. Масса бабочек порхала над землей, подобно мертвым листьям. Иногда доносились голоса птиц, иногда над головой шумел ветер, и все время слышался шум моря.