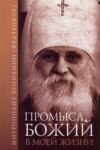Kitabı oku: «Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки», sayfa 2
Глава 2. Гуси-лебеди
Война надолго изувечила наше село. Она отняла у всех радости жизни, а оставила взамен горе, слезы, испытания. Она поселила в каждую избу голод и тревогу.
Особенно тяжело приходилось женщинам. Они выполняли непосильную для них работу. Дети в семьях ушли на второй план. Которые дети были постарше, зачислялись в помощники, а то и хуже: каждый ребенок – это был рот, а его надо кормить. Каждый рот был на счету. Особенно тяжело было в тех семьях, где кормилец не вернулся с войны, оставив дома ораву детей да очень старых родителей, их надо было допаивать, докармливать «до краю». Нередко в таких случаях матери говорили в сердцах: «С рук, с ног съели меня совсем», а после смахивали слезу и добавляли: «Прости, Господи».
Еще в детстве я поняла, что в жизни страшнее голода, холода и униженного состояния нет ничего. Наша семья состояла из двух человек, я и мама, без собственной крыши над головой. Мы довольно долго жили вместе с теткой Марией и ее сыном Яшкой, который был старше меня на 10 лет. Тетка Мария была женой не вернувшегося с войны брата мамы, Петра. Она всякий раз напоминала маме, что мы всего лишь ей квартиранты, потому командовала, понукала, как хотела, но угодить ей было почти невозможно. «Хоть масла на голову лей, для нашей Марии – все вода», – подчас говорила мама. Однако тетка шла за советом только к маме, ценила ее за золотые руки. Да мы и перебивались мало-мальски только благодаря ее рукам. В селе мама слыла первой рукодельницей, но в войну это ушло на второй план.
Надо сказать, что всем тогда было несладко. Помню, как от недоедания и непосильного труда случилось с теткой Марией что-то неладное: стала она беспорядочно бегать по избе, хватать и бросать все, что попадет под руку, а пол и вовсе не могла путем вымыть – тут помоет, убежит, в другом месте помоет, тряпку не отожмет, воду расплещет, а потом и вовсе упала на пол и зарыдала.
«С ума сошла наша Мария, но ничё, вот станет наедаться, отойдет», – сказала мама.
В колхозе денег не давали, а давали пайки. Это несколько килограммов муки. Из нее пекли в основном лепешки на воде. Мука была плохая, лепешки получались невкусные, в рот не лезли. Чаще всего делали заваруху: сначала муку растворяли в небольшом количестве воды с солью, после заливали кипятком, тщательно помешивая. Так муки расходовалось меньше, и ее можно было растянуть от пайка до пайка. Иногда делали галушки из ржаной муки, случалось, вместе с отрубями. Это маленькие комочки теста, которые бросали в сильно подсоленную воду. Мама добавляла туда мелко нарезанный лук, «чтоб ядреней было на брюхе». Галушки – это все равно что праздник в доме. Остатки этого хлебала выпивали через край из алюминиевого блюдца, одного на двоих. В конце трапезы все вылизывали до блеска так, хоть не мой посуду. Ели все, что было мало-мальски съедобное. Вся надежда была на картофель, но его берегли на посадку, ели экономно. В сильные морозы он нередко у нас внизу промерзал, и тогда мы садили картофельные очистки.
Главная беда тогда состояла в том, что меня не на кого было оставить. Так, без яслей, садика, бабушек, с первых минут жизни я была предоставлена сама себе. К той поре мамина мать, а моя бабушка Таисия Ивановна, видная в округе повитуха, умерла от голода. «Только трубочкой была она сыта», – рассказывала мне мама. Вспоминая мой грудничковый возраст, мама всегда со слезами на глазах говорила, что я тогда «на привязи сидела». Это означало, что оставляла она меня одну на большой русской печи, при этом привязывала на длинное полотенце к трубе и, по возможности, прибегала с работы проведать. Другого выхода у нее не было. Шла война. Руки в тылу нужны были в первую очередь.
Как-то раз она обнаружила, что я сползла с печи и болталась на полотенце уже голубая, не имея сил плакать. Мама зарыдала, проклиная войну, немцев и колхоз. До трех лет я питалась только материнским молоком, но росла рахитичной, как большинство детей тогда.
Вспоминая то время, мама часто повторяла, что «она ходит с той поры, ровно тень». Говорить я начала рано, подражая взрослым, называя маму Лизунькой. Это я отлично помню. А вот ходить начала только в три года с лишним. Помню, это было перед весной. Иван Романович из деревни Березовая, которая стояла за рекой, только что вернулся с фронта со своей женой и маленьким сыном. Сынок лежал в корзине, оттого его ласково называли «малинка в корзинке». Жена Ира называла мужа «русский Иван», а он ее ласково «моя евреечка». На какое-то время они остановились в нашем низу – жить им было негде. Кто пустит на житье целую семью? Только самые бедные. Квартиранты у нас беспрестанно менялись из-за жизненных неудобств: теснота, темнота, холод, тараканы, спертый воздух. Помню постоянные ругачки в детстве. Они вспыхивали мгновенно. Война нагнала в наше село всякого народу: тут и эвакуированные, и репрессированные, сосланные на поселение, просто бежавшие в поисках жилья, работы и лучшей доли. Все сбились с проторенного жизненного пути. Помню, как Иван Романович поставил меня на ноги, показал маленький кусочек немецкой копченой трофейной колбасы, вкус которой я помню и сейчас, а после поманил к себе. Так я пошла. Росла и крепла я медленно, от недоедания ноги плохо меня слушались. С большим трудом забиралась на лавку и подолгу глядела в окно. Редко кто-нибудь из прохожих потчевал меня корочкой хлебца.
Отчетливо помню, как мимо нашего дома по улице нескончаемо тянулись пленные… Их вели дальше на север, на лесоповал конвоиры с собаками. «Незваный гость хуже татарина», – говорит русская пословица. Долго еще в селе обсуждали это событие, и я слышала, как говорили односельчане: «Будь они прокляты, так им и надо. Пусть померзнут в наших снегах, вот тогда узнают нагую бабу в крапиве».
На улице увидишь многое. Кого из детей не привлекала она? Всего интереснее глядеть на тающие облака, греться на солнышке, ждать тепла и наблюдать, как в загородке перед домом распускается сирень. Каждый прохожий глядит на нее, как на невесту, тут и мне было внимание.
Помню, когда мне шел пятый год, пришла к нам на беду неприятная весть: старшая сестра мамы – кока Крестина, как она ее называла, упала с высокой лестницы и зашиблась. (Тетка жила в селе Жуковское, или по-нашему Жук.) Ноги ее перестали ходить, был поврежден позвоночник, и фельдшер настоятельно велела парить ее всю в хвое длительное время. После неведомых для меня переговоров с членами правления колхоза мама пошла к сестре на несколько дней, а меня оставила на тетку Марию. Это событие я связываю с первым сильным впечатлением раннего детства. Я сидела одна у окна в избе, на лавке и ждала маму. В это самое время неожиданно грязный колхозный боров сильно ткнулся мордой в окно. С перепугу я упала с лавки и с этого момента перестала говорить. Маму каким-то образом вызвали домой из Жука. Идти ей надо было 12 километров. Пришла она вечером и, увидев меня, разрыдалась, потом дала гостинец, но я не заговорила. На другое утро повела она меня к соседям. Была у них бабушка Авдотья Ивановна, сухая, как костыль, с бородавкой на самом кончике носа. Немногословная, работящая, приветливая, с очень пронзительным взглядом, она всегда производила на меня впечатление доброй волшебницы.
– Авдотья Ивановна, поладь Таню от испуга. Ну-ка, борова испугалась и говорить перестала, а как хорошо рассуждала, – прослезилась мама, обратившись к бабушке.
Первым делом бабуля велела маме выйти из избы, а меня положила на лавку прямо под матку (так называлось большое несущее бревно на потолке). Долго гладила меня, что-то тихо шептала, очень часто крестила и все время просила смотреть на нее. Не отрывая глаз от ее бородавки, я незаметно уснула, а проснувшись, она поинтересовалась, не болит ли у меня голова. Сказать я не могла, а лишь мотала головой.
Раз за разом она колдовала надо мной все дольше и дольше: шептала молитвы, крестила, гладила, просила целовать крест и пить святую воду. Не знаю, от ее ли стараний или повышенного внимания ко мне, от ласковых ли ее рук, но я вновь заговорила. Напоследок бабушка посадила меня рядом с собой на лавку, погладила нежно по голове, дала кусочек пирожка с морковкой и тихо сказала слова, которые я запомнила на всю жизнь:
– Никого не бойся, Таня, и людей не бойся. Хороших людей боле, чем худых.
Я еще не могла задуматься над смыслом этих слов, но крепко их запомнила, и каждый раз, когда бабуля меня голубила, она внушала эту мысль. Обязательно потчевала и легонько подталкивала к двери. Мамина сестра продолжала болеть. Трудовая дисциплина в колхозе была жесткой, даже жестокой, но маму отпустили полечить сестру и на другое лето, так как муж сестры Иван был участником Великой Отечественной войны. Его комиссовали после контузии досрочно. На этот раз мы пошли вдвоем.
Дорога для нас оказалась очень длинной. Я быстро уставала и просилась к маме «на крошки», то есть на спину. Обхватывала ее шею руками, а она придерживала меня сзади. Помню, было очень жарко, мы часто садились отдыхать на обочину дороги. Пройдя больше половины пути, надо было брести через «сметанку», так назывался длинный участок дороги с жидкой глубокой грязью, который просыхал только в очень засушливые годы. Наши места болотистые, низкие. Мама несла меня осторожно, приговаривая:
– Хоть бы не нахлебаться. А ведь все, Таня, кусок хлеба гонит.
Мама всю дорогу рассказывала про Ивана. Я тогда еще поняла, что она его не уважала за дурной нрав и барские замашки. Они в деревенской жизни всегда отторгались.
– Люди за Родину голову кладут, а он уж в начале войны как-то отвертелся, герой.
Мы подошли к жуковскому мосту и сели отдохнуть. Идти оставалось уже немного. Кругом ни души. Тишина летом в жару убаюкивает, вот только овод не дает покоя. От него нет никакого спасу. Вдруг из-под моста внезапно выходит к нам оборванный, худой и грязный мужчина и, глядя на маму в упор, спрашивает:
– Тетка, есть хлеб? Дай.
Мама моя была боязливой женщиной, склонной уходить от сомнительных людей и конфликтов. Единственным оружием ее за свои права были слезы. Вот и на этот раз она тихо заплакала, приговаривая от испуга:
– Сама-то иду с девчонкой к сестре за милостыней, овод уж обеих сожрал, ноги пристали, спина отнялась, дочь всю дорогу на себе несу, из сил выбилась… Пойди посуди: где в колхозе хлеб?
Он прервал ее грубо, одной фразой:
– Обо мне в деревнях никому! Молчать! – и побрел прямо по кочкам в лес.
– Наверное, беглый колонист, скрывается. А зачем мне языком болтать? Живи он, как хочет. Слава Богу, нас живыми оставил, добрый попался, а то, поди, и сам пострадал ни за что.
Мы торопливо пошагали дальше.
Все предсказания мамы сбылись. Контуженный Иван не давал нам покоя, особенно ночами. Он бегал по избе и истошно кричал:
– Танки идут, самолеты бомбят, а ты, Лиза, иди стряпай мне блины!
– Пошел ты к черту, я не Кока, надо мной изголяться!
– Стряпай! Приказ даю!
Тут Иван начинал бить поленом по полатям, на которых мы спали. От этого я просыпалась, но не боялась Ивана. Думала, что ему нас не достать – полати были приделаны к самому потолку в конце избы.
– Надо будет полено нам с собой класть, Таня.
Что мы и делали.
Однако и днем было не лучше. Днем у мамы была прорва работы: ухаживать за домашним скотом, лечить сестрицу не где-нибудь, а на русской натопленной печи в сильнице (это круглое большое железное корыто). Огромная кирпичная печь стояла, раскорячившись, посреди избы.
Но самым тягостным и унизительным было для мамы при виде Вани, входившего в ограду с пихтой, отправлять меня «подальше с его глаз», тоже на горячую печь. Это ли не пытка? Иван патологически меня ненавидел, но есть не запрещал, хотя кормили меня одну (по его указанию) на печи, за стол не сажали. Поначалу мама мирилась с этим: чего не сделаешь ради того, чтоб дитя было сытым? Как-то раз мы услышали от Ивана: «Объели нас совсем, ведь вас двое». Эти слова были последней каплей в нашей чаше терпения.
– Почему он меня ненавидит? – спросила я маму.
– А потому, что у них с Кокой нет дитя. Она много рожала, даже двойню, но все дети умирали, вот они и зарятся на тебя, а мне завидуют. Не для дружка, а для своего брюшка живут.
Мама не вынесла всех издевательств и при ее терпеливом характере совершила отчаянный поступок. Мы собрались, и, перед тем как уйти домой, мама с порога резко заявила:
– От вас только кусок в горле застрянет. Не отпрашивайте меня опосле из колхоза, там хоть над дочерью так не изгаляются, как здесь.
Зимой тетке Крестине стало легче, и она выслала с кем-то старое потертое байковое одеяло темно-синего цвета в благодарность за все труды. Мы возвращались в Ленск. На обратном пути нам повезло: мы встретили попутную лошадь и уселись на телегу. Лошадь шла ровно и тихо, а после удара вожжами побежала рысью. Телега загромыхала, нас трясло на проселочной дороге. Завидя издали деревянную высокую ажурную конусообразную башню, мы заулыбались. Это была когда-то геодезическая вышка, стояла она на самом краю нашего села и для путников служила опознавательным знаком. Бревна ее уже изрядно прогнили от времени, и даже самые отчаянные головушки из сельских ребятишек не лазили на нее. Башня придавала селу неповторимый вид, служила его украшением, а потому все любовались ею и даже втайне гордились: на всю округу такой больше не найти. Но пришла пора, и ее разобрали за ненадобностью, а еще и потому, что она от старости могла рухнуть в любое время. Село сразу стало приземистым и затерялось в пойме реки Туры среди полей и кустарников.
– Видишь, Таня, башню? Там – наш Ленск. Куда завтра нарядит меня бригадир на работу? Если пошлют в курятник, то ты ко мне не ходи, там петухи клевачие.
Неужели целый день глядеть в низкое оконце, когда на дворе прекрасная погода? В наших краях это дар природы. Разве усидишь, хоть ты и маленькая, и рахитичная?
В один из погожих дней пошлепала я вдоль села по большаку и увидела, как стая домашних гусей медленно шагала от маленького озерка в центре села через дорогу. Домашние гуси людей не боятся. Они ковыляли важно, вразвалочку, не представляя никакой опасности. И вдруг какой-то бес погнал их. Они вытянули шеи и с шипом, все разом погнались за мной, хлопая крыльями, облепили меня со всех сторон и начали щипать изо всех сил за ноги, спину, живот. Я закричала, упала от боли на дорогу, зарыдала. Проходившая мимо женщина подхватила меня на руки и понесла домой. Помню, как она гладила и утешала меня.
С той поры еще долго я боялась гусей и бежала от них со всех ног по деревне, завидев издали. Чуть позже, прочитав сказку «Гуси-лебеди», я волновалась, как бы они не подхватили и не унесли меня «в темные леса». Помню, что после работы мама оборачивала меня мокрым платком, плакала надо мной и молила Господа помочь нам все перенести и выжить. На самый черный день берегла она свое рукоделье: кружевные скатерти, подзоры, вышитые полотенца… Черный день настал. Решила мама все это отнести заведующей детским садом, чтоб та взяла меня на какое-то время в детсад. Денег у нас не было.
– Пять лет сидишь ты одна без догляда. Разве так можно? Это хорошо, что Бог несет, а ведь все до притки2. Ну-ка калекой останешься! С колхоза нет спросу, виноватых не найдешь. Руки мои никто не отнимет, они с шести лет все делать учились. Опосле навяжу и тебе, Таня, всего. Будет же на нашей улице праздник… – приговаривала мама и доставала из сундука свое богатство.
За все ее рукоделие зачислили меня в садик на два летних месяца. Кстати сказать, так и не довелось маме навязать мне кружев… Ни продавать, ни покупать она не умела. Была слишком доверчивой и даже наивной. Еще задолго до моего появления на свет, когда пошли колхозы, а наше село голодало, понесла она фамильное рукоделье на базар в город Туринск, за сорок километров от села, по бездорожью продавать или менять на хлеб, но ее там мгновенно обчистили, выхватив прямо с руки самые красивые вещи, а она и не заметила. «Завыла я, да вернулась домой с пустыми руками», – рассказывала она мне.
Глава 3. Матушкина услуга
В годы моего детства особую нужду испытывала мама, как и все односельчане, в медицинском обслуживании, оно было плохое и очень плохое. Чаще всего обходились своими силами, прибегая к помощи знахарей, бабушек, соседей или надеясь на собственный опыт. У моей мамы главная надежда была на Бога. Нередко она так и говорила: «Без Бога – не до порога».
Помню, когда я внезапно сваливалась с высокой температурой на лавку или на печь, мама, придя с работы, тут же шептала молитву на чистую воду в чашке, бросив в нее горящий уголек, а когда он остывал, давала мне попить, просила помочить голову и грудь.
– Вот увидишь, хворь сразу как рукой снимет. Опять тебя изурочили. Нет ничё хуже сглазу. Давай-ка поглажу да попричитаю: «Не я тебя правлю, не я тебя глажу. Правила-гладила бабушка Саламанида. Шла из-за синего моря, несла доброго здоровья рабе Божьей Татьяне. Выскакайте, выпрыгайте, все скорби-болезни. Направь, нагладь по-старому, как мать поставила…»
Мама настолько верила в чудодейственную силу молитв, что с ними растила моих детей. Верила в сглаз, приметы, гадания… во все сверхъестественное. Бабушку Саламаниду помнят до сих пор наши дочери. А что остается человеку делать, когда не на кого надеяться?! Без молитвы в то время едва ли можно было представить жизнь любого россиянина.
Наш дом стоял в самом центре села. Напротив, через дорогу, посреди берез возвышалась когда-то деревянная церковь с колокольней. Осенью церковный купол вместе с золотом берез придавал особую прелесть селу. Каждый путник прибавлял шаг, завидя эту красоту. Глядя на нее, душа пела от восхищения, а путник думал о вечном. Мои предки были людьми верующими. Звонил колокол, шли в воскресенье нарядные люди к обедне или на престольный праздник. Здесь, у церкви, встречаясь, обменивались новостями, рассказывали друг другу о своем горе или радости, приглашали в гости. Батюшка наш отец Егорий (в миру Попов Георгий Петрович) вместе с матушкой Елизаветой Александровной жили через дом от нас. Батюшка занимался пчелами и садом, матушка – домом и огородом. Своим прихожанам они никогда не отказывали в помощи. После того как, говорила мама, «на всех нашло умопомрачение и церковь наша пала», они с матушкой никуда от своих прихожан не уехали, а остались тут до последнего своего часа. Нередко мама прибегала к их помощи.
Помню, как после двухмесячного посещения детсада я очень сильно заболела. Фельдшер ленской амбулатории дала маме направление в больницу села Благовещенского в 15 километрах от нашего и строго-настрого наказала везти меня туда, так как я находилась «на волосок от гибели». В колхозе дали старую клячу, запрягли ее в телегу «от царя гороха» и назначили явно ненадежного проводника Ивана. Он был моложе мамы, инвалид с детства. Одна нога была у него короткая, скрюченная и бессильно болталась при ходьбе. Ходил он на двух больших деревянных костылях, они упирались в подмышки. Работал счетоводом в колхозе, был у всех на виду. Иван подъехал к дому, мама вынесла меня на руках, положила на телегу, подстелив свою старую визитку, мою голову положила на свои колени. С собой взяла она бутылку чаю с молоком. Молока тетка Мария «плеснула в кружку на донышко». «Чтоб ее дети под старость так кормили», – говорила в таких случаях мама. Бутылку плотно закрыла пробкой, свернутой из старой сельсоветской газеты. Мы тронулись в путь. Это был день, который и теперь у меня в глазах. Такие осенние дни не каждый год стоят в наших местах. Настоящее бабье лето, как окно в природу между летним зноем и затяжной промозглой осенью. Тепло и солнечно. Небо над нами безоблачное, высокое, голубое. Село щедро разрисовано яркими красками осени. Рябины красуются перед нами оранжевыми кистями ягод. Золотые березы не шелохнутся.
Мама радовалась, что Иван согласился сопровождать нас в такую даль, а то «вдруг да чё, не дай Бог, в дороге приключится. Все же с мужиком надежнее. Добрый ты человек, а доброму человеку даст Бог веку». Она надеялась, что доедут потихоньку да помаленьку, погода нам сопутствовала. Легкий ветерок срывал и уносил листья с сентябрьских берез, они щедро осыпались на землю золотым дождем. Мы попали в большой листопад. Это, говорят, к счастью. Мы ехали, но какая-то неведомая тоска уже поселилась в наши души. Словно в первый раз открывалась для нас красота замолчавшей природы, принесшей в наш глухой край осеннюю тихую грусть. А быть может, было ощущение моей болезни, которая черной краской прошлась по оранжевому великолепию. Доехали до околицы и выехали за село.
Мы ехали по изрытому колесами, копытами лошадей большаку. Дорога была в рытвинах и ухабах, избита так, что костыли Ивана, которые лежали рядом со мной на телеге, гремели и обещали вот-вот слететь с нее. Мама их придержала одной рукой, а другую положила мне на горячий лоб и часто предлагала попить:
– Попей, Таня, чаю. Ну-ко, чё это опять случилось с тобой? Как хорошо в садик ходила. Сколь стишков выучила, я нарадоваться не могла, как тебя хвалили: и внимательная, и памятливая, и старательная. Крапивы больше других ребятишек на суп рвала. Надо бы тебя сводить к бабушке Авдотье Ивановне, а я вот в такую даль везу, а зачем, спрашивается?
– Ты, Лиза, знай, что тебя с Таней не положат в больницу. Она у тебя не пеленишна, грудь не сосет.
Я лежала на телеге в одном ситцевом платье, ничем не прикрытая. Лежала тихо и неподвижно. Говорить не хотелось, хотя я была в сознании. Мама с Иваном о чем-то разговаривали. Было тихо и пустынно кругом, только кое-где саполята докапывали картошку. (Саполята – это жители соседней с Ленском деревушки Саполово.) Хлеб на полях был убран, поля отдыхали. Постепенно осенние листья засыплют все: дороги, тропинки, поля. Поля уснут на зиму. Красота этого высокого голубого неба восполняла скудность нашей земли. Я еще никогда не разлучалась с домом надолго, а сейчас не могла отчетливо представить, что со мной происходит. Болезнь сжимала меня, температура поднималась, слова не выходили из меня, я теряла свои силенки, знала только одно: мама любит меня. Помню, она всегда смотрела на меня с умилением, восхищением и улыбалась, как завидит меня издали.
Сейчас ее печальные большие зеленые глаза угасли, смотрели на меня устало и с тоской. Мне было жаль ее, ведь она всегда казалась маленькой и беззащитной. Когда я болела, а болела я в детстве очень часто, и всегда тяжело, мне было не по себе, я чувствовала какую-то вину перед ней за то, что опять заставляю ее страдать. Разве мало она мучается и живет «ни Богу свечка, ни черту кочерга».
– Таня, если меня не оставят с тобой, так ты не вой шибко, а слушай врачей, да все исполняй, как велят, вот оклемаешься быстро, а как мне сообщат, что ты встала на ноги, так опосле, может, опять с Иваном прибудем за тобой.
Но проводник возразил:
– Не, как поправится, так ногами придется бежать. Лошадь из колхозу едва ли здоровой дадут. Счас и то вон какую доходягу дали, понужнуть нельзя, то и гляди падет, и поминай как звали. Которы лошаденки покрепче, те на работе, а эту хоть на себе тащи. Да ты не горюй, Таня, до невест далеко, все заживет.
Помню, что пила я с трудом, так как не могла глотать.
Оба моих проводника были жалостливы и просили меня крепиться. Мама беспрестанно гладила меня да приговаривала, что будет просить у Бога здоровья и обязательно попробует уговорить врача: может, тот оставит ее на денек со мной.
Телега скрипела все сильнее, трясла нас по шашибарнику3.
Все ждали, что в лесу дорога направится. Но в это самое время телега скрипнула так, что что-то внутри ее хрустнуло, потом раздался глухой звук в колесе, она враз и сильно наклонилась на один бок. Угол телеги, где сидел Иван, вмиг осел. Внезапно Иван упал с телеги на землю. Костыли его слетели, я покатилась. Мама схватила меня. Проводник выругался громко, посмотрел с земли под телегу.
– Все, приехали, поворачивай оглобли назад. Ось у переднего колеса изломалась. Никуда не уедешь теперь на трех колесах, да в такую даль. Как будем добираться обратно? Не было печали, так черти накачали.
Может, оно и к лучшему.
Мама положила меня на сухую траву у дороги, а сама стала помогать бедолаге. Одно колесо сняли совсем. Дырявая, старая телега сразу набекренилась.
– Так не хотела я ехать, как в воду глядела. И зачем согласилась? Только зря Таню натрясла. Ладно, хоть от Ленска недалеко отъехали. А чё, подладить-то никак нельзя? – Мама вытирала слезы.
– Чё мы с тобой, Лиза, подладим? У нас один не тянет, а другой – не везет. Ране-то и вовсе больниц не знали, а ведь как-то жили люди.
Мама перестала плакать. Знала, что слезами горю не поможешь. Мы все разместились на одном боку, вместе с костылями и большим колесом. Домой ползли еле-еле, дорога казалась длинной, хотя до дому было всего километра два с половиной. Я уснула, наверное, от тряски или от счастья, что буду неразлучна с мамой. Проснулась у дома. Больную внесли на руках в избу и положили на лавку.
– В больницу не пойду, все равно не помогут. Хотели бы помочь, так ране бы помогли, а то отказались, спихнули нас от себя подале. Пойду лучше к матушке Елизавете Александровне. Боле идти не к кому.
Матушка пришла тут же, внимательно обсмотрела меня.
– У Тани свинка. Все дети ею болеют. Только Таня болеет очень тяжело, так как она ослаблена.
Мама тем временем оправдывалась перед ней за то, что снова пришлось потревожить пожилого человека. Матушка годилась в матери моей маме. Это была сухонькая, благородного вида седая старушка с живыми глазами и мягкими движениями. Говорила она тихо, обдуманно, не употребляла в речи лишних слов. Имела приятный голос. Весь ее внешний вид вызывал уважение. Как приятно жить рядом с хорошими людьми! Их сад упирался в наш двор, но мне никогда не приходило в голову забраться в него, да и мама всегда наказывала: «Не вздумай покаститься4, Таня. Потом ведь и за помощью не обратишься, стыдно будет. И запомни крепко: нечего на чужую кучу глаза пучить».
Мама пожаловалась матушке, что колхоз дал худую лошаденку, которая сам не знаешь «то ли дорогой падет, то ли довезет».
– Проводник был хороший, я на него не посудачу. Добрый, говорит рассудно, но не могутный мужик, да и неопытный по молодости. Другой бы чё надо, так с собой взял да починил бы ось, а чё с калеки взять? Как говорят, «счастье – на крыльях, а несчастье – на костылях». Такой сам себе не рад. На одной-то ноге далеко не ускачешь.
Мама, помнится, еще много всего наговорила, а после заключила, что, видно, Богу было угодно не ехать нам в Благовещенск.
– Хоть бы дал Бог оклематься Тане. За ней ведь еще надо смотреть в оба глаза, а я все на работе, не отлучишься. Замордовали совсем, не верят моему положению.
– Успокойся, Лиза. Потерпи. Чем можем, тем поможем.
Матушка приходила ежедневно. Лечила медом, настоем трав, столетником и молитвой. Тем временем в доме всех с утра наряжали на работы. Я оставалась одна.
– То ли смерти нашей хотят, то ли время такое, что после войны никак иначе нельзя, – рассуждала несчастная мать.
Постепенно и благодаря усилиям матушки я поправлялась. В таких случаях понятно, что нужно благодарить за помощь, но мама ничего взамен не могла предложить, когда сама жила «как червь в навозе», и, как всегда, оправдывалась:
– Ты уж извини, матушка, мне нечем заплатить. Мне за тебя не замолить, не запросить у Бога. Сама видишь: горе-то мое не обойдешь, не объедешь. Видно, уж так на роду написано: чему быть – того не миновать.
– Не убивайся, Лиза. Видишь, дочка на поправку пошла. Жизнь всех испытывает. Надо только правильно идти по земному пути. Бог в помощь вам! Когда нужно – обращайся, не стесняйся. Про плату не говори. Лучше помолись за нас с батюшкой.