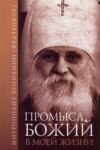Kitabı oku: «Живы будем – не умрем. По страницам жизни уральской крестьянки», sayfa 4
После окончания института я, молодая учительница, учила ее сына. Она называла меня по имени-отчеству, чем приводила в большое смущение.
Глава 6. Первоклассница
– Как будем нынче зимовать? Дров ни полешка. Куда мне тебя, Таня, упрятать от морозов и простуды? Ну-ка, подумать только, уж зимы стали бояться.
Мама придумала «упрятать» меня в школу. Доказательства моего возраста и готовности к учебе в школе у мамы не было. К тому времени я благополучно исстригла на мелкие аккуратные квадратики все документы, которые хранились у мамы на божнице за иконой. Делала это от нестерпимой тоски и оттого, что нечем было играть. Битые фарфоровые черепки, найденные на помойках, «калачики» из грязи шли в игры только летом, а зимой была прямо беда.
Мама этот факт долго скрывала, но пришла необходимость во всем признаться, ей дали штраф. Денег у нас не было, поэтому за «халатное отношение к документам» у нее вычитали трудодни целый год и к «чистому расчету», как она выражалась, она осталась в долгах перед колхозом. Сколько было пережито горьких минут и пролито слез! Зато с какой гордостью показала я маме, после прихода ее с работы, эту «кучку нарезанных документов». Мама меня не тронула: ведь я так старалась!
– А куда бы я их и спрятала от тебя, кроме божницы? И зачем мне паспорт: я без него обходилась почти сорок лет.
На этих слезах я и приплыла прямо из нашего низа в первый класс школы. Мне было еще 6 лет, я была настоящей Дюймовочкой. Входя в общий коридор школы, многие, кто там стояли, подбегали ко мне и, как добрые хозяйки манят к себе цыплят, манили меня: «Цып-цып-цып» – и протягивали щепоткой сложенные руки. Я улыбалась, шла вперед, никогда не сердилась, а только смеялась по-детски добродушно.
До десятого класса стояла последней в ряду на уроках физкультуры из-за своего маленького роста. Это меня не смущало. В классе сидела все школьные годы на первой парте, чаще всего у окна. Парты были как деревянные комбайны. Столешница и скамья на двух учеников совмещались воедино. Верх был черного цвета с выемками для ручек по краям и чернильницы посредине. Нижние части крышек открывались с помощью шарниров, чтоб удобно было входить внутрь парты. Все остальное в парте красилось в коричневый цвет.
Парты были разных размеров: от маленьких в начале до больших в конце класса. Несмотря на маленькую парту, усевшись за нее, я как будто провалилась. Меня не было видно. Два года я клала на сиденье всю свою верхнюю одежду и сидела на коленях, подняв попу. Приспособилась. Парта с ее конструкцией меня пленила: она была очень тяжелая, крепкая, не двигалась при письме. Черная классная доска не была прибита к стене, как сейчас, а стояла на широких ногах посреди класса, за столом учителя. В классах было светло. Стены побелены известью. Одно лето и моя мама подряжалась за деньги белить школьные классы.
Не помню, как пошла я в первый класс, но помню, как мама «в руки» шила мне холщовую сумку, а еще помню перед тем, как идти в школу, попросила она меня встать на лавку, а сама встала передо мной. Мы оказались с ней лицом к лицу.
– Какая ты уже большая выросла, ростом стала с меня, уже в школу пошла. – Это был сентябрь 1950 года. – Старайся, учись. В добрый час, во святое время.
Я впервые рассматривала свою маму; она не была яркой, выразительной, но внимательный глаз мог отметить, что черты лица ее были утонченные: высокий лоб, большие зеленые глаза смотрят просто и открыто. Маленький прямой нос, аккуратные губы всегда были сложены в затаенную улыбку, красивый овал лица и матовая, чуть бледная кожа. Длинная тонкая шея до конца ее жизни так и не была изрезана поперечными морщинами. Русые тонкие волосы всегда завиты в тугой узелок под гребенку и спрятаны в платок. Ситцевый платок на голове она носила даже дома. Странно, думала я, отчего волосы на голове русые, а брови густые, темные, длинные, с изгибом. Она была очень миловидна и обаятельна. Выражение лица доверчивое и простодушное. Ее портили глубокие продольные морщины на лбу. Иногда мне казалось, что лицо ее красиво, но эта красота не светилась изнутри, а была растоптана и убита нуждой. По ее внешнему виду невозможно было точно определить возраст. В жизни она была склонна не к веселью, а, наоборот, к слезам, уединению и печали.
Ее лицо портили плохие зубы. Они так часто болели, что даже не помогали испытанные средства: держать во рту соленую воду, курить махорку, лежать на горячей печи или, наоборот, прикладывать к щеке снег. Все в деревне ревом ревели, если болели зубы. Знали: пока зуб не выболит – не успокоится. Зубного врача не было, зубы не лечили, их только рвали. Как-то раз к ее шатающемуся зубу квартирант Сашка привязал крепкую нить, другой конец которой был привязан к дверной ручке. Он дернул с маху из сеней – зуба как не бывало.
– Вот, слава Богу, и дело с концом. Давно бы так, чё мучилась? Раз – и готово дело! Спасибо тебе, Сашка. А то ведь разбарабанило бы щеку, как робить будешь? Дома ведь не оставят. Зуб – это не отговорка. Никто мое гнилье в голову не возьмет.
Я часто говорила ей:
– Мама, ты красивая, только зубы у тебя плохие.
– Что поделаешь? Какие Бог дал.
– А еще ты, мама, очень худая.
– Когда-то была я кровь с молоком. А теперь, – махнула она рукой, – как вспомнишь, то и завоешь лихоматом.
Она всегда давала мне напутствия, которые перед каждым годом учебы были по-матерински трогательны.
– Ты, Таня, сама себе дорогу пробивай. Нам никто не поможет. Расти большой, да умной. Ты мне и люба, и мила, и досадница…
В школу ходила я с большим удовольствием. На уроках не сводила с учительницы глаз, не замечала никого вокруг. Старалась выполнить все учительские указания. Помню, как маме недосуг было делать мне палочки для счета, так на контрольной работе по арифметике я разулась до голых ног зимой, чтобы посчитать пример, – не хватало пальцев рук, решила занять их у ног.
– Что ты, Таня, делаешь под партой?
– Примеры решаю.
Надежды наши оправдались не все. В школе зимой тоже был холод. Дрова были сырые, горели плохо, к приходу школьников классы не нагревались. Дрова для школы заготовлять было некому. Мы мерзли. Анна Ивановна всю зиму вызывала нас по двое к печке, чтоб грели руки. Весь первый класс писали карандашами.
Самым интересным было слушать рассказы и сказки, которые читала молодая пышноволосая учительница. Сначала школа была для меня большой игрой, загадочным миром. Мне нравилось шумное движение, школьный звонок, письмо мелом на доске. Нас, первоклассников, было много, человек 20, не меньше. С 1946 по 1956 год наше село было районным центром. Каждая изба была битком набита людьми, в основном приезжими. Многие, ранее эвакуированные, репрессированные, пленные, остались в наших местах навсегда. К тому же до 1959 года в г. Туринске – это в 35 км от нас – была тюрьма для политзаключенных, еще с царских времен. Я подозреваю, ссыльные были и в нашем селе.
Ученики в классе напоминали маленьких чучелок. Одеты в основном с чужого плеча. Перешитые из старых вещей платья и юбки, на ногах – ботинки с отбитыми носами, глубокие калоши, которые подвязывались мочалкой, чтоб с ног не слетали; пиджаки, спадающие с плеч с залатанными локтями. Ничего яркого, нового, цветастого. На головах изношенные шали и бесформенные шапки убитых на войне отцов. На таких учеников смотреть без слез было нельзя. Все в обносках, в отопках. На мне были сшитые «в руки» мамой коричневое выцветшее ситцевое платье почти до пят, чтоб «надолго хватило», и мамина видавшая виды визитка для тепла, в которой я тонула.
На ту пору в нашем селе были две одноэтажные деревянные школы, они стояли напротив друг друга через дорогу. В одной училась малышня и старшеклассники, в другой – все остальные. В каждой школе помещались классные комнаты, учительская, открытый гардероб для учеников и каморка для уборщицы. По удивительному совпадению даже каморки были обустроены одинаково. На стене обязательно висели часы-ходики, на лицевой металлической части которых были нарисованы три коричневых медведя в лесу. Под ними на камине стоял звонок с длинной веревочкой. В каморках было тепло, потому как всегда грелась вода для мытья полов и тут же готовилась нехитрая еда. Запахи проникали в коридор, дразнили нас, голодных школьничков. Покоя уборщицам не было никогда: школа работала в две смены, да и мы нередко из любопытства совали свой нос, куда не следует. В коридоре в сторонке стоял трехведерный цинковый бачок с краном и металлической кружкой на металлической цепочке. Долгое время уборщицы в обеих школах были бессменными, мы любили их за преданность школе.
В дождливую осень и бурную весну мы подходили к школе в обуви, тяжелой от грязи, еле волоча ноги. В одной школе тетя Дуся, а в другой тетя Тоня, как часовые, стояли на страже чистоты и порядка, подавая одни команды:
– Мойте чище обувь!
– С грязью в школу не пущу!
Тут же у входа стояли два больших деревянных корыта и одно – металлическое. Рядом под ноги была брошена старая ветошь. Мама наказывала мне строго-настрого в корытах «не брызгаться».
После таяния снега, дождей в деревне стояла непролазная грязь. По деревянному тротуару, проложенному сбоку вдоль главной деревенской улицы, ходить было опасно: можно раскатиться и хлопнуться. Через улицу пройти и вовсе было невозможно. Если меня никто не возьмется перенести, то я приходила домой выше колена в холодной грязи. Дома надо было срочно приводить себя в порядок и срочно забираться на печь. Ноги горели.
Еще много десятков лет бездорожье, непролазная грязь были в наших краях настоящим стихийным бедствием. Сколько было угроблено человеческих жизней, скота, техники! Когда в распутицу или непогодь приходила я в школу с мокрыми ногами, то вскоре возникала потребность бежать в туалет. Он стоял далековато от школы. К нему вели тротуар и заросшая с обеих сторон тропинка. Надо бежать бегом, чтобы не опоздать на урок. Я боялась, что меня не пустят. Туалет – это целая напасть для такой мелюзги, как я, особенно зимой. Внутри его можно раскатиться и угодить в большую круглую дыру. Везде нужны соображение, сноровка и опыт, даже в уборной. Он тоже был для нас школой выживания…
Кончились школьные занятия, я шла домой и сразу же садилась за уроки. Никакой передышки. Так делала всегда, учеба была самым любимым занятием. Дома ничего хорошего не было, кроме тишины. Я была одна. Избу на замок не закрывали: воровать было нечего. Если на столе пусто, значит, есть нечего. Так было почти ежедневно. Я искала недоеденный кусочек хлебца или в чугунке в очистках завалявшуюся картошку. После клала тетрадь на лавку, вставала коленями на пол – так мне было удобнее – и старательно выполняла домашнее задание. Самым тяжелым занятием было – заточить карандаш. Карандаш точила сама, оперев его об лавку, карябала кухонным ножом, как могла, иногда отковыривала дерево руками, зубами. Пишу и вспоминаю, как быстро, легко, красиво затачивал нам карандаши на уроке черчения в седьмом классе наш учитель-фронтовик Стехин Николай Александрович. У него были золотые руки.
Руки людей о многом говорят. У моей мамы самым красивым было выражение лица и – руки. Она нередко повторяла: «Только тогда вяжу с радостью, когда чувствую руками нить». Я часто гладила ее руки.
Уроки делала я терпеливо, высунув кончик языка. Не помню случая за всю учебу в школе, чтоб не сделала уроков. Мама частенько повторяла:
– Учись, добивайся своего, дочь, а то будешь, как я. Правду ведь пословица говорит: «Неохота шить золотом, так бей молотом».
Зимой, впервые в жизни, я готовилась к елке, к встрече Нового года. На уроках мы делали нехитрые игрушки. Клея не было. Вместо него учительница приносила из дома сделанный из муки клейстер. Цветной бумаги не было. Я мечтала увидеть настоящую елку и Деда Мороза со Снегурочкой. Верила, что они придут из леса. Думала о празднике. Ведь до сих пор его у меня никогда не было. А тут даже песни новогодние для хоровода выучили.
Мама ушла на работу, я пошагала на новогодний праздник в школу. Детей в школе оказалось много. Вдруг стремительно и внезапно вошел Дед Мороз. Я испугалась и забилась в угол, меня знобило. Дед Мороз загадывал загадки, а я захотела убежать домой. Мне было плохо, голова кружилась и горела. Мне показалось, что я должна вот-вот упасть. Из школы я бежала что было духу. Разделась, легла на гопчик и провалилась. Вечером мама кинулась ко мне:
– Господи, ты вся покрылась красной сыпью.
Мама испугалась и куда-то убежала. Потом пришла фельдшер и объявила: «Это – корь». Мне подали порошок с водой. Вечером пришла незнакомая женщина и стала объяснять маме, что меня надо срочно накрыть ярко-красной тканью: «Ее корь боится». Мама побежала на второй этаж в сельсовет и вернулась оттуда со старым флагом, который дала ей втихаря исполнитель. Я долго лежала под красным флагом.
Маму ежедневно наряжали на работу, а мы одни с флагом боролись с болезнью. Наконец корь «испугалась» красного цвета, и я выздоровела. Сейчас я думаю, что человеческая жизнь тогда ничего не стоила. Как-то вечером пришла с работы мама, и я неожиданно для себя и ее попросила дать мне хотя бы одну, но очень большую ягоду клюквы.
– Слава Богу, идешь на поправку.
Она побежала и где-то расстаралась найти кружку клюквы. Все зимние каникулы пролежала я на гопчике, ослабленная и похудевшая. Вспоминала праздник, который долго ждала, да так и не повеселилась.
– Со смертью борется девчонка, – говорила тетка Мария, которая меня любила своей грубой невысказанной любовью. – Как жалко-жалко, да что поделаешь? На все – Бог.
Одиночество, чувство, что ты никому не нужен, – вот, что было самым трудным в детстве. Это добивало окончательно вместе с голодом, холодом, вшами.
– Бросила девчонку на произвол судьбы: делай чё хошь и питайся, как сумеешь. Я ровно как не человек, не мать, а машина – только роблю.
Как-то раз застала я маму в слезах после школы.
– Ну-ко, пришла к нам инспектор по образованию из Ирбита (она родом тоже из нашего села). Я взволновалась, оторопела даже, не ожидала ее увидеть в нашем низу. «Уж не обессудьте, угостить нечем». А она ко мне с подгорелым солодом: «Я вот по какому вопросу, Елизавета Харитоновна: отдай Таню в детдом, тяжело тебе, колхознице, без отца ее воспитывать, а то погубишь дочку. Я все сама оформлю, как полагается. Я бы и сама ее у тебя взяла, да ты не отдашь, но в детдоме я беру ее под личный контроль. Она будет одета, обута, накормлена».
От этих слов я сжалась в комочек. Неужели заберут меня силой от мамы? Я убегу, спрячусь, меня никто не найдет. Когда играем в прятки, меня никогда не могут найти и потом кричат: «Цыпушка, выходи! Ты уснула?»
– А чё ты, мама, ей ответила? – с испугом спросила я.
– «Живем мы хуже некуда. Да кто ноне выпрыгнул из своих штанов? Все почти так живут, а мы с Таней живем душа в душу: есть – вместе и нет – пополам». А она все убаивала, убеждала, уговаривала да нахваливала детдом: и тепло, и светло. И воспитатели с дипломом, не то что я – три класса. Ничё путного не скажу, задачу решить не помогу, в глаголах не разберусь.
Помню, что я плакала и просила маму не отдавать меня в детдом, обещала ей, что буду стараться учиться и сама в глаголах разберусь. Это была для меня трагедия.
– Не отдам, вот увидишь – не отдам. Ты еще от горшка два вершка, тебе мать нужна. Тебя никто так не будет любить, как я. А умирать придется – так вместе. Я бьюсь, как рыба об лед, но как пословица говорится: «Одна голова не бедна, бедна – не одна». Все, даст Бог, переживем, чё придется.
Я долго плакала.
– Да ты не вой, Таня, я ведь не сдалась. Может, инспекторша и добра нам хотела, только где это видано, чтоб мать свое дитя бросала? Хорошо она говорила, складно, с умом, да только бывают люди, которые мягко стелют, да жестко спать.
Мама обняла меня, прижала к своей груди и погладила. Руки ее были мягкими и теплыми. Мы нередко вспоминали потом с мамой это событие.
– Кто его знает, какой он, детдом? Это еще на воде вилами писано, что там шибко хорошо. Везде хорошо – где нас нет. Вот скоро учебу кончишь, а летом будешь со мной телят пасти. Летом нам будет полегче. Это я лонись7 тебя с собой редко брала, потому что ты маленькая была – не выдюжишь, а ноне, ежели недалеко да в хорошую погоду, – со мной побежишь. Вдвоем нам веселее.
Закончился первый учебный год. Меня, как хорошую ученицу, перевели во второй класс и даже одарили ситцем на платье. Из девчонки, которая пришла в школу перезимовать, я стала настоящей ученицей. Я бежала домой, мне не терпелось показать ярко-красный ситец в маленький белый цветочек, внутри которого стояла голубая точка. Такого ситца я больше не встречала. Это был первый успех и первый восторг. Наступило лето.
Коренные уральцы любят повторять: «У нас шесть месяцев зима, остальное – лето».
– Дольше лето ждем, а промелькнет – и не заметишь: то ли было, то ли нет!
Летом я всегда бегала босиком. Другой обуви не было. Загорала как чертенок, подошвы ног грубели так, что камушки не чувствовала.
– Вот чертенком-то я тебя впервые и приметил, выделил из всех, – сознался мне как-то мой муж.
С утра мама уходила пастушить телят, вечером я всматривалась в даль тропинки, протоптанной вдоль всего огорода. Она медленно подходила к дому с длинной тонкой вицей8 на плече, в неизменной своей серой юбке и блузке в черно-белую, а теперь от того, что выцвела, в серо-белую клетку. Я бежала навстречу вприскочку, радуясь и улыбаясь.
– Что ты мне принесла?
Иногда она давала мне полевого луку, пучок щавеля или букетик полевых цветов, но чаще тихо просила:
– Не надоедай, Таня. Дай отдохну. Сегодня весь белый свет опутешествовала, была, где Макар телят не пас, а я пасла. Все трудодни зарабатываю. Правда пословица говорит: «Не потопаешь – не полопаешь».
Она ставила вицу в угол, сразу же, не раздеваясь, ложилась на лавку и засыпала. Иногда перед тем, как нам лечь спать на гопчик, мы с мамой ели «чё придется». Она уходила утром с вицей на плече, когда я еще спала. Если солнечно, то уходила босиком. Мы с ней долго были настоящими босяками. В карман своей старой блузки клала кусочек лепешки, недоеденную картошку с солью. Если шел дождь, то надевала свои избитые тяжелые ботинки со шнурками. Такие я увидела впоследствии на полотне художника Ван Гога. Я испытала шок, это была настоящая философия жизни.
Жизнь заставляла меня с утра искать пропитание. Сначала я бежала к реке рвать тонкие свежие веточки тальника. Если с ветки сорвать все листья, а после оголить стебель, то его можно жевать или лизать. Ивовый сок сладкий. Однако основное спасение от голода – это репейные пучки: надо стебель освободить от листьев, снять с него верхнюю грубую кожицу – и пучка готова к употреблению. Главное – срывать вовремя: пока репей не зацвел. Тогда на самой верхушке были видны ярко-сиреневые колючие шишки; их мальчишки охотно закатывали в наши головы. Этих самых репейных пучек съела я за свое детство не один килограмм, спасаясь от голода. Пора, пожалуй, написать мне оду репейной пучке и прославить ее, мою спасительницу.
Вечером нередко хвасталась маме, что уже на завтрашний день заприметила свежий непереросший репейник.
– Голод – не тетка, тут, как говорится, есть захочешь, так умоешься.
Будучи взрослой, решила я украдкой от моей семьи съесть такую пучку, но не смогла, не от печальных моих воспоминаний о далеком голодном детстве, а от неприятных вкусовых ощущений. Не смогла, а только крепче сжала зубы, чтоб не хлынули слезы.
Иногда днем проведывала меня, приходя с работы, тетка Мария. Она молча вынимала из шкапчика на середе оставленную для меня кружечку молока, в которую уже нападали обильно мухи, вытаскивала их из чашки крючковатым грязным указательным пальцем и подавала мне:
– Пей, не моргуй (то есть не брезгуй). Пей на здоровье. Не умирать же с голоду.
Я зажмуривалась и – выпивала. С голоду и черта лысого съешь.
Каждый день я забегала в наш продуктовый магазин с надеждой. Надежды иногда сбывались.
– Возьми, Танюшка, пряник. Ты ведь одна весь день голодом сидишь. Мать пастушит с зари до зари. Верим Лизуньке. У ней уж сердце-то, поди, закаменело так, что в сердце ранят – и кровь не канет.
Полпряника всегда оставляла маме. Не помню за свою жизнь случая, чтоб не поделилась с ней.
Как-то раз увязалась я за мамой.
Я заметила за много лет, что мама не бьет животных без надобности, она, скорее всего, повинуется им. Телята с утра идут лениво, видно, тоже не проснулись. На поляне мама села на траву, я легла рядом. Надо мной медленно плыли облака. Легкий, еще робкий теплый ветер согревал и ласкал нас. Голубизна неба вместе с солнцем слепили глаза. День был, как по заказу, тихий, теплый, без дождя. Душа радуется такому дню. Мы дышали целебным запахом трав и цветов. Я плела венок и радовалась новым ощущениям. Здесь, под куполом синих небес, свободы и воли больше, чем дома в деревне. Мы были наедине с тишиной, наслаждались чистым воздухом и прислушивались к тому, как телята мирно, с аппетитом жуют сочную траву. Никто не мешал каждому делать свое дело. Мы грелись на солнце, впитывая живительный поток его лучей.
И вдруг тишину нарушил странный, незнакомый звук… Он шел с неба, приближаясь и пугая. Звук напоминал работающую сортировку. Мы повернули головы. С неба прямо на нас летела «этажерка», как тогда называли маленький самолет У-2. Со всех концов села бежали к нашей поляне люди: и млад и стар. Мама начала креститься.
– Господи, спаси и сохрани. Сроду не видала такого чуда! Это, наверное, эроплан. Я про них слыхала. Зачем он летит к нам? Ты хоть, Таня, не бойся.
– Я и не боюсь. Это ты, мама, испугалась.
Самолет снижался и наконец сел недалеко от нас. Телята с перепугу убежали в болотце, а мы не удержались и вместе со всеми побежали рассматривать диковину. Самолет обступили со всех сторон. Из кабины быстро вылез молодой, красивый, белозубый летчик в комбинезоне, легко соскочил с крыла «этажерки» и заулыбался.
– Здорово, колхознички! Что испугались? Я вижу вы уж всех богов собрали. Как поживаете? Кого прокатить по небу?
– Меня, меня!
Я выбежала впереди всех и встала перед летчиком.
Мама схватила меня в охапку и понесла в толпу. Я впервые брыкалась, стараясь освободиться от маминых рук.
Не помню всех слов, но помню, что очень просилась на самолет: кричала и плакала.
– Не вздумай вздымать девчонку. Не дам!
Летчик улыбался еще шире, а колхознички, наверное, не ожидали обнаружить у меня такой прыти. Летчик с кем-то поговорил, показал свои бумаги, сел на траву возле своей машины, перекусил и попросил мужиков раскрутить пропеллер, а всех отойти подальше от самолета. Пропеллер вращался со свистом, ветер гнал на нас прохладу, вздымал подолы, срывал платки и наводил страх на старых и малых.
Летчик сел в кресло, пристегнулся, задвинул стеклянное окно, с улыбкой помахал всем и, разогнав самолет по траве, взвил вместе с ним в небо. Все махали ему вслед, кто-то его крестил, другие, приложив ладонь ко лбу, долго провожали взглядом. Жители нашего села впервые увидели «эроплан». Восторгов и разговоров было еще надолго. Люди разошлись, а я с той поры заболела небом и решила обязательно стать летчиком.
Вечером солнце с негой опускалось к земле. Мы гнали телят домой, окутав себя со всех сторон в вечернюю зарю. Впереди лежала любимая до слез знакомая округа. У горизонта открылась для нас вечерняя позолота у синего края облака, спустившегося прямо на землю. Я успокоилась и замолчала. То ли с перепугу или от волнения молчала и мама. Телята устало плелись, наевшись вволю.
Я долго не могла уснуть, представляя, как вырасту большая, стану летчиком и обязательно посажу свой самолет на эту же поляну. Никому не открыла я своей первой мечты, тайны, живущей во мне, только, увидев свою первую учительницу, поинтересовалась: «Где учатся на летчиков?»
Как жаль, что не дано учителям читать мысли своих учеников. Она не могла знать, что своим ответом убивает во мне самую первую, самую светлую и желанную мечту. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Разве могла она, молоденькая учительница, предположить, сколько слез прольет маленькая рахитичная девочка, лежа на траве и глядя безнадежно в бескрайнюю даль неба; сидя на лавке, опустив голову на стол и, думая о чем-то, лежа на горячей печи. Еще долго вспоминала я жизнерадостного летчика и завидовала ему.
– Таня, на летчиков учат одних мальчиков в больших-больших городах. Это так далеко от нас…
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.