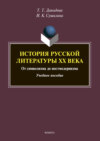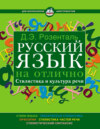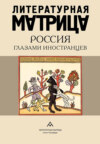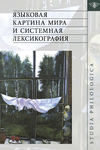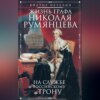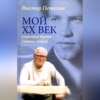Kitabı oku: «История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции», sayfa 13
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку…
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.
2 июня 1960 года Б.Л. Пастернак был похоронен на Переделкинском кладбище.
Пастернак Б. Избранное: В 2 т. М., 2003.
Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989.
Переписка Бориса Пастернака. М., 1990.
Пастернак Е. Борис Пастернак. М., 1990.
Ивинская О., Емельянова И. Годы с Пастернаком и без него. М., 2007.
Анна Андреевна Ахматова (Анна Андреевна Горенко)
(23 июня (11 июня) 1889 – 5 марта 1966)
Родилась в семье инженера торгового флота, капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко (1848—1915) и Инны Эразмовны (в девичестве Стоговой; 1856—1930) в посёлке Большой Фонтан вблизи Одессы. С двух лет до шестнадцати жила в Царском Селе. У А. Горенко было два брата: Андрей (1886—1920), Виктор (1896—1976), три сестры: Инна (1883—1905), Ирина (1892—1896), Ия (1894—1922), жизнь которых закончилась трагически, взрослые сёстры умерли от туберкулёза, а брат из-за семейных неурядиц застрелился (подробнее см.: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. М., 1991). В воспоминаниях друзей А. Ахматовой нарисованы портреты её родителей. Валерия Сергеевна Срезневская (Тюльпанова; 1888—1964), подруга Анны Андреевны, с детства – соседи, вместе ходили в гимназию, вместе играли, вместе дурачились, в одной из бесед с Л.К. Чуковской (13 октября 1940 года) вдруг вспомнила родителей Ахматовой:
«– Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни, – рассказывала Валерия Сергеевна Анне Андреевне. – Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить – непонятно.
– Не только на курсы, – поправила её Анна Андреевна, – она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.
– Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками.
– Чудные белые ручки! – вставила Анна Андреевна.
– Необыкновенный французский язык, – продолжала Срезневская, – вечно падающее пенсне, и ничего, ну ровно ничего не умела… А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр всегда набок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: «Евгения была недурна»…
– Он видел её в Константинополе, – вставила Анна Андреевна, – и находил, что она самая красивая женщина в мире.
Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича: «Бессмертные руки!» – сказала Валерия Сергеевна» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 2007. Т. 1. С. 221—222).
Вряд ли нужно что-то добавлять из других источников современников – здесь дана яркая картина семейной жизни Анны Андреевны, портрет её родителей, а главное – легко объяснить, почему в 1905 году отец ушёл из семьи к очень некрасивой женщине, но любившей помолчать.
В доме было очень мало книг на русском языке, только большой том Некрасова, который подарил Инне Эразмовне первый муж, больше на французском. В тринадцать лет Анна Горенко узнала французских поэтов Ш. Бодлера, П. Верхарна, Ж. Лафорга и их последователей. «Писать стихи я начала рано, – вспоминала Анна Андреевна, – но удивительно то, что, когда я ещё не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: декадентская поэтесса…» (Там же. С. 159). И стихотворные пробы А. Ахматовой были в том же духе.
В 1903 году Валерия Тюльпанова (Срезневская) познакомила Анну Горенко с Николаем Гумилёвым, их знакомство продолжалось долго, они читали друг другу стихи, принимали и критиковали, Николай Гумилёв, уехав в Париж, писал ей письма, Анна извлекала информацию из этих насыщенных писем, училась, набиралась поэтического опыта, состоялась первая публикация – в журнале «Сириус» (1907. № 2), потом Николай Гумилёв сделал Анне предложение, от которого она сначала отказалась: она такая худая, шальная, а он – один из завидных женихов. Но после нескольких отказов 25 апреля 1910 года состоялись венчание и свадьба.
Лидия Чуковская как-то её спросила, «кто придумал ей псевдоним».
«– Никто, конечно. Никто мной тогда не занимался. Я была овца без пастуха. И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды. Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: «Не срами моё имя». – «И не надо мне твоего имени!» – сказала я» (Там же. С. 97). Ахматова – это фамилия её прабабушки.
После венчания Анна Ахматова и Николай Гумилёв отправились в Париж, в котором Анна познакомилась с молодыми литераторами и художниками. В это время художник А. Модильяни сделал её портрет, ставший со временем знаменитым. Вернувшись из Парижа, жили в Царском Селе, писали, посылали в журналы, печатались (Всеобщий журнал. 1911. № 3; Gaudeamus. 1911. № 8—10; Аполлон. 1911. № 4). На первые публикации откликнулись рецензенты: в «Новом времени» гневный В.П. Буренин (1911. 29 апреля), В. Брюсов поддержал (Русская мысль. 1911. № 8). Вернувшийся из Африки Н. Гумилёв одобрил её поэтические опыты.
Летом 1911 года Анна Ахматова гостила у своей свекрови в имении Слепнёво Тверской губернии. Это так ей пришлось по душе, что и все последующие шесть лет она сюда приезжала, ей нравился деревенский уют, подлинная русская речь, мужики и бабы, естественные и независимые, живописная природа, прекрасная хозяйка имения Анна Ивановна.
Осенью 1911 года Н. Гумилёв, С. Городецкий, М. Кузмин организовали Цех поэтов, А. Ахматова стала секретарём. И начала готовить первый сборник стихотворений «Вечер» (СПб., 1912), на который откликнулись В. Брюсов (Русская мысль. 1912. № 7), Г. Чулков (Жатва. 1912. Кн. 3), В. Гиппиус (Новая жизнь. 1912. № 3). В критике говорилось о серьёзном творческом влиянии И.Ф. Анненского (1855—1909), сборника его стихотворений «Кипарисовый ларец» (1910), в котором в блистательной форме отражено противоречие внутренней жизни лирического героя с трагическими обстоятельствами внешнего бытия, с его тоской и страданиями. Анна Андреевна очень часто вспоминала И. Анненского. Много позже, 21 мая 1940 года, Лидия Чуковская услышала, как Анна Андреевна впервые услышала от Николая Гумилёва о только что вышедшем сборнике И. Анненского: «И я сразу перестала видеть и слышать, я повторяла эти стихи днём и ночью… Они открыли мне новую гармонию». А 30 июня 1940 года А. Ахматова в разговоре с той же Л. Чуковской лишь подтвердила своё мнение о влиянии И. Анненского на русскую поэзию:
«– Вот сейчас вы увидите, какой это поэт, – сказала она. – Какой огромный. Удивительно, что вы его не знаете. Ведь все поэты из него вышли: и Осип (Мандельштам. – В. П.), и Пастернак, и я, и даже Маяковский.
Она прочитала мне четыре стихотворения, действительно очень замечательные. Мне особенно понравились «Смычок и струны», «Старые эстонки» и «Лиры часов». В самом деле, очень слышна она, и Пастернак слышен» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 165—166). Это сейчас, в 1940 году, а в сборнике «Вечер» влияние И. Анненского было еще заметнее и «слышнее».
Вскоре Н. Гумилёв придумал назвать свою группу в Цехе поэтов акмеистами, придумал свою теорию акмеизма, много писал, теоретически обосновывая появление нового течения в поэзии. Анна Ахматова тоже думала, что она – акмеистка: «Несомненно, символизм – явление XIX века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, – писала она, – потому что мы чувствовали себя людьми XX века. И не хотели оставаться в предыдущем…» (Ахматова А. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 278). Но акмеизм, как символизм, как футуризм, скоро скончался, не оставив, кроме названия, особого следа, но осталась тонко передающая переливы чувств поэзия.
Два месяца Гумилёвы путешествовали по Северной Италии, беременная Анна Андреевна ни в чём не уступала любопытному Николаю Степановичу, а вернувшись из Италии, Анна Андреевна уехала в имение Слепнёво, и 18 сентября 1912 года у Николая Гумилёва и Анны Ахматовой родился сын Лев. Но это ничуть не уменьшило активности молодой поэтессы, почувствовавшей свой дар. Она выступала в различных творческих объединениях, таких как кабаре «Бродячая собака», во Всероссийском литературном обществе, на Высших женских (Бестужевских) курсах. Красота, непосредственность, манера выступать, поиски откровенной правды и справедливости привлекли к ней внимание молодёжи, которая её и бранила, и ею восхищалась: «Все мы бражники здесь, блудницы, / Как невесело вместе нам! / На стенах цветы и птицы / Томятся по облакам. / Ты куришь чёрную трубку, / Так странен дымок над ней. / Я надела узкую юбку, / Чтоб казаться ещё стройней…» и «Да, я любила их, те сборища ночные». «Затянутая в чёрный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, – вспоминал Бенедикт Лившиц Анну Ахматову и Николая Гумилёва в «Бродячей собаке», – вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в «свиную» книгу свои последние стихи, по которым простодушные «фармацевты» строили догадки, щекотавшие только их любопытство.
В длинном сюртуке и чёрном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилёв, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь «кинжального» взора в спину» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1923. С. 261—263). Художник Юрий Анненков с той же тщательностью подчёркивает необыкновенную гибкость юной красавицы: «Застенчивая и элегантно-небрежная красавица со своей «незавитой чёлкой», прикрывающей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов читает, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, каким располагала Ахматова» (Анненков Ю. Анна Ахматова // Возрождение. Париж, 1969. Сентябрь. № 129. С. 43).
Не только молодых слушателей привлекла Анна Ахматова, но и художников-живописцев, таких как К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, Н. Альтман, А. Модильяни, Г. Верейский, Н. Тырса, А. Тышлер, О. Дела Вос-Карбовская, А. Зельманова-Чудновская. Откликнулись своими стихами и поэты, прославляя её величавость, обаятельность, достоинство. В эти годы, 1913—1914, Анна Ахматова печатала свои стихи в журналах «Гиперборей», «Аполлон», «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал», «Нива». Бывала в Обществе поэтов, где познакомилась с организатором этого общества Н.В. Недоброво, который всячески поддерживал её стихи, особенно стихи о любви, и в статье об Ахматовой упрекал тех, кто критиковал поэтессу за узость её увлечений, за якобы однотонность её любовной лирики (Русская мысль. 1915. № 7. Отд. 2. С. 68).
В марте 1914 года вышел второй сборник стихотворений «Чётки» (СПб.), который приветствовали её современники В. Ходасевич, В. Маяковский, Б. Пастернак, М. Цветаева, О. Мандельштам, обратили на неё внимание А. Блок и В. Брюсов.
В это время Н. Гумилёв и Анна Ахматова разошлись. Николай Степанович увлекся артисткой «Старинного театра» и Студии Мейерхольда Ольгой Николаевной Высотской (1885—1966), в 1913 году у них родился сын Орест Николаевич Высотский. Анна Андреевна знала об этом увлечении Гумилёва и предложила ему разойтись. «Мы прожили с Николаем Степановичем семь лет, – вспоминала А. Ахматова. – Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала ему, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, однако я видела, что он очень обиделся. Вот это стихотворение о лесе, что я вам прочитала, это обо мне… (А.А. Ахматова достала стихи Гумилёва «К синей звезде» и прочитала строчки: «Я женщиною был тогда измучен». – В. П.) Тогда он только что вернулся из Парижа после своей неудачной любви к Синей Звезде. Он был полон ею, – и всё-таки моё желание с ним расстаться уязвило его… Мы вместе поехали в Бежецк к бабушке взглянуть на Лёву. Мы сидели на диване, Лёвушка играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты всё это затеяла». Это было всё… Я нахожу, что мы слишком долго были женихом и невестой. Я в Севастополе, он в Париже. Когда мы поженились в 10-м году, он уже утратил свой пафос…» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. С. 197—198).
Анна Ахматова духовно сблизилась с О. Мандельштамом, М. Лозинским, актрисой О. Глебовой-Судейкиной, Ф. Сологубом, Г. и Н. Чулковыми, Б. Анрепом, Г. Адамовичем, с актрисами, художниками, о ней много говорили, спорили, писали критические статьи. Привлекали её незаурядный талант и необыкновенное обаяние, простота и полная правдивость.
Открывшийся у неё туберкулёз заставил её уехать лечиться в Финляндию, потом в Крым.
Начавшиеся революционные перемены, житейские трудности и неудобства не затронули её духовного богатства, напротив, закалили, она стала мужественней, стала глубже осознавать себя как русскую национальную поэтессу. И, наблюдая, как лучшие силы России уезжают за границу, она со скорбью написала:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьянённая блудница,
Не знала, кто берёт её,
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
1917. (Воля народа. 1918. № 1 (12 апреля). Затем: Подорожник. Пг.,
1921. Без строфы «Когда приневская столица…» и пр.)
Блок, прочитав это стихотворение, сказал: «Ахматова права – это недостойная речь. Бежать от русской революции – позор» (Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт // Блок А. Стихи. Пг., 1925. М. 34—35). Некоторые с ним согласились, другие возмутились и продолжали уходить.
24 декабря 1917 года Д. Выгодский писал:
«В нашей поэзии сегодняшнего дня есть два полюса, два направления. Одно – пытающееся воскресить классическую точность выражения и художественную законченность построения – то, которое нашло своё наилучшее выражение в поэзии Анны Ахматовой. Другое – то, в основании которого лежат футуристические теории, то, которое ныне возглавляется Маяковским. И почти все современные молодые поэты, выявляя в большей или меньшей степени свою индивидуальность, подчиняются сознательно или бессознательно одному из этих направлений.
Подобно тому как пятнадцать лет назад все писали как Бальмонт, так и теперь они пишут либо как Ахматова, либо как Маяковский» (Выгодский Д. О новых стихах // Новая жизнь. 1917. 24 деккабря).
В сентябре 1917 года в Петрограде вышел сборник «Белая стая», в котором известные поэты и критики обнаружили, что в стихах Ахматовой твёрдо наметилась верность русскому классическому стиху. Некоторые отметили явное влияние Е. Баратынского и А. Пушкина. В. Жирмунский, Б. Эйхенбаум, К. Чуковский заговорили о поэзии А. Ахматовой как явлении национальном, историческом, прославляющем величие России (см.: Вестник литературы. 1921. № 6—7; Куранты. 1918. № 2; Эйхенбаум Б. Ахматова. Опыт анализа. Пг., 1923; Виноградов В. О поэзии Ахматовой. Стилистические наброски. Пг., 1923 и др.).
Корней Чуковский в лекции «Две России» лишь талантливо подтвердил, что русская поэзия развивается в двух направлениях: одно – это Ахматова, второе – это Маяковский: «Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их. Ахматова есть бережливая наследница всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. У неё множество предков: и Пушкин, и Баратынский, и Анненский. В ней та душевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных традиций. А Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть нарождение нынешней революционной эпохи, в нём её верования, крики, провалы, экстазы. Предков у него никаких. Он сам предок и если чем и силён, то потомками. За нею многовековое великолепное прошлое. Перед ним многовековое великолепное будущее. У неё издревле сбережённая старорусская вера в Бога. Он, как и подобает революционному барду, богохул и кощунник. Для неё высшая святыня – Россия, родина, «наша земля». Он, как и подобает революционному барду, интернационалист, гражданин всей вселенной… Она – уединённая молчальница, вечно в затворе, в тиши… Он – площадной, митинговый, весь в толпе, сам – толпа» (Чуковский К. Ахматова и Маяковский // Дом искусств. 1921. № 1. С. 23—42). Но эта объективная точка зрения вскоре резко изменилась, как только возникла критика журнала «На посту». Критик Г. Лелевич, не согласившись с теми, кто прославлял Ахматову как величайшую поэтессу современности, писал: «Поэзия Ахматовой – небольшой красивый осколок дворянской культуры… Круг эмоций, доступных поэтессе, чрезвычайно невелик. Общественные сдвиги, представляющие основное, важнейшее явление нашей эпохи, нашли в её поэзии крайне слабый и к тому же враждебный отклик. Ни широты размаха, ни глубины захвата в творчестве Ахматовой нет» (Лелевич Г. Анна Ахматова // На посту. 1923. № 2—3. С. 178—202). И эти мысли через двадцать лет почти дословно повторит в своём докладе А. Жданов.
А в 1922 году Анна Ахматова вновь обратилась к осуждению тех, кто в тяжкую минуту для России бросил её, сбежал за границу:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой…
(Anno Domini. Берлин, 1923)
Это стихотворение в эмиграции тоже заметили, И. Бунин, не называя Ахматову по имени, ответил на эти стихи. Были и другие отклики, но А. Ахматова осталась верной своей родине.
Уже в эти годы заговорили об Анне Ахматовой как о выдающемся поэте, то и дело переиздавали сборники её стихов «Чётки», «Белая стая», художники писали портреты.
В 1918 году Ахматова второй раз вышла замуж за Владимира Казимировича Шилейко (1891—1930), учёного-ассиролога, у него только что вышла книга «Вотивные надписи шумерийских правителей» (1915), он хорошо знал древнейшую культуру и мёртвые клинописные языки. Но их совместная жизнь продолжалась недолго, в 1921 году они уже разошлись, но В. Шилейко посвятил несколько своих стихотворений Анне Ахматовой, которая в свою очередь несколько стихотворений посвятила Владимиру Шилейко. По воспоминаниям А. Ахматовой, с ним невозможно было жить и писать стихи: если бы она дольше прожила с Владимиром Казимировичем, она тоже бы разучилась писать стихи, ему нужна была жена, а не поэтесса. В это время промелькнула статья Виктора Перцова «По литературным водоразделам», которую запомнила Анна Ахматова: он напомнил, что её стихи далеки от современности, «у языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Анна Ахматова, новые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей умереть…» (Жизнь искусства. 1925. 27 октября). И получалась трагическая ситуация: заграница её проклинала, что она осталась в России, а устами В. Перцова проклинала за то, что не сумела «вовремя умереть». Отсюда и её длительное молчание – что-то принесёт в редакцию, а редакция думает, что это о колхозах. И не печатали, а потом она перестала ходить.
С искусствоведом Н.Н. Пуниным (1888—1953) А. Ахматова прожила пятнадцать лет, с 1923 по 1938 год, 19 сентября 1938 года она ушла от него, оставаясь в той же квартире. Пунин предлагал ей уехать, но уехать было некуда. Пунин готовил дрова только для себя, не оставляя места для дров Ахматовой в том же сарае.
Н.Н. Пунин – сотрудник журнала «Аполлон» – принял революцию, сотрудничал с советской властью. Ещё до революции он написал несколько книг: «Японская гравюра» (1915), «Андрей Рублёв» (1916), после революции – «Татлин», «Современное искусство», «Новейшие течения в русском искусстве». В ранних сборниках Анны Ахматовой есть несколько стихотворений, посвящённых Н.Н. Пунину, появившихся вскоре после женитьбы. А потом начались мрачные дни и переживания. Из тех же «Записок» Л. Чуковской можно узнать, сколько же оскорблений нанёс он Анне Ахматовой, постоянно ей изменяя. Приведу некоторые из её воспоминаний: «Шесть лет я не могла писать. Меня так тяготила вся обстановка – больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, в чём дело: идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна (первая жена Н.Н. – В. П.): служит, получает 400 рублей жалованья в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал в это прокрустово ложе, а я и не хозяйка, и без жалованья»; «Шумят у нас. У Пуниных пиршества, патефон до поздней ночи… Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала»; «Я многого не понимала бы и до сих пор в Николае Николаевиче, если бы не Фрейд. Николай Николаевич всегда стремится воспроизвести ту же сексуальную обстановку, какая была в его детстве: мачеха, угнетающая ребенка. Я должна была угнетать Иру. Но я её не угнетала. Я научила её французскому языку. Всё было не то – при ней была обожающая мать, вообще всё было не то. Но он полагал, что я её угнетала»; «Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца. Не правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватило уйти. Мне было очень плохо, ведь я тринадцать лет не писала стихов… Я пыталась уйти в 30-м. Ср. обещал мне комнату. Но Николай Николаевич пошёл к нему, сказал, что для него мой уход – вопрос жизни и смерти… Ср. поверил, испугался и не дал комнаты. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб… во время этих своих… флиртов. Он должен был всё время показывать, как ему с вами скучно…» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой). Можно было бы ещё привести эпизоды из жизни Анны Ахматовой и Николая Пунина, их вполне достаточно в «Записках» Л. Чуковской, но и тех, что приведены здесь, вполне достаточно, чтобы понять, что и этот брак был неудачным.
А долго Ахматова не уходила от Пунина потому, что над ней с 1935 года нависла трагедия: повсюду начались аресты части образованного общества, то одного из знакомых арестуют, то другого, то третьего. 30 октября 1935 года Анна Ахматова приехала в Москву к Булгаковым. Елена Сергеевна записала в свой дневник:
«Приехала Ахматова. Ужасное лицо. У неё – в одну ночь – арестовали сына (Гумилёва) и мужа – Н.Н. Пунина. Приехала подавать письмо Иос. Вис.
В явном расстройстве, бормочет что-то про себя».
На следующий день Е.С. Булгакова и А. Ахматова отвезли письмо Сталину. 4 ноября: «Ахматова получила телеграмму от Пунина и Гумилёва – их освободили» (Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 108). В 1938 году вновь арестовали Л. Гумилёва, большие очереди в НКВД, непередаваемые муки и страдания одинокой матери в ожидании любого решения относительно её сына. Он обвинялся в том, что он задумал застрелить Жданова как отмщение за убийство отца. Но ничего подобного не было в замыслах.
Писатели, художники, артисты были напуганы стихами Осипа Мандельштама, которому грозили всякими неприятностями со стороны охранительных учреждений. Возник страх у большей половины образованного общества. Анна Ахматова хорошо знала тех, кто подвергался аресту. Начиная с 1929 года начали арестовывать профессоров, академиков, вплоть до 1931 года арестовали около сотни представителей академических кругов, в том числе академиков С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачёва, М.Б. Любавского, пять членов-корреспондентов. Их вина заключалась в том, что они организовали Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России. Арестованным работникам Русского музея предъявили обвинение в том, что они якобы организовали Российскую национальную партию. Арестованы были и сотрудники Эрмитажа. А потом начались политические процессы 1936—1938 годов. Самым распространённым литературным жанром были доносы, письма в вышестоящие органы, указанных в доносах и письмах лиц тут же забирали и предъявляли им чудовищные обвинения. В июле 1937 года состоялось решение руководства партии использовать физические меры воздействия при допросах врагов государства. 10 января 1939 года решением ЦК КПСС после многочисленных протестов это варварское средство достижения нужного результата было отменено.
Много лет, когда не возникало стихов, Анна Ахматова занималась изучением биографии и творчества Александра Пушкина, высказала интересные мысли и наблюдения, советовалась и спорила с известными пушкинистами Б.В. Томашевским и С.М. Бонди.
Особые отношения у Анны Ахматовой сложились с супружеской парой О.Э. и Н.Я. Мандельштам, и, когда О. Мандельштама сослали в Воронеж за известное стихотворение о Сталине, она тут же написала ему:
«Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память, – писала А. Ахматова 12 июля 1935 года в Воронеж. – Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если всё кончится благополучно – обязательно побываю у Вас.
Лето ледяное – бессонница и слабость меня совсем замучили.
Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется, я его не увижу – он сказал мне, что погибает от тяжёлой психастении.
Что это за мир? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.
С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свидания.
Крепко жму Вашу руку и целую Надюшу.
Ваша Ахматова» (Мандельштам Н. Об Ахматовой. Три квадрата. М., 2008. С. 25)
И действительно, А. Ахматова не только побывала у О. Мандельштама с 5 по 11 февраля 1937 года, но и чуточку спустя, вернувшись в Москву, напишет стихи «Воронеж» и прочтёт их Мандельштамам в мае 1937 года, когда они приедут в Москву:
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черёд.
И ночь идёт,
Которая не ведает рассвета…
Анна Ахматова хорошо знала судьбу Михаила Булгакова, Николая Эрдмана, Бориса Пильняка, Евгения Замятина, десятков близких ей людей, известных писателей, художников, артистов, режиссёров, ученых, редакционных работников. «Из того, что с нами было, самое основное и сильное – это страх и его производное, – вспоминала Н. Мандельштам в книге «Об Ахматовой», – мерзкое чувство позора и полной беспомощности. Этого и вспоминать не надо, «это» всегда с нами. Мы признались друг другу, что «это» оказалось сильнее любви и ревности, сильнее всех человеческих чувств, доставшихся на нашу долю. С самых первых дней, когда мы ещё были храбрыми, до конца пятидесятых годов страх заглушал в нас всё, чем обычно живут люди, и за каждую минуту просвета мы платили ночным бредом – наяву и во сне» (Там же. С. 111). Страх у Анны Ахматовой вполне объясним: у неё был сын Лёва и неопубликованные стихи. В это время Анна Ахматова сдерживала себя, свой неукротимый характер. «В юности, по её словам, она была очень трудной: раздражительной, нетерпеливой, вечно вспыхивала. Ей стоило больших усилий обуздать свой бешеный характер. Сначала я этому почти что не верила – в те годы она держала себя в узде. Эти свойства прорвались у неё на старости, когда сдерживающие центры ослабевают. В последние годы в ней таинственным образом воскресла молодая и необузданная Анюта» (Там же. С. 127).
Проводив в печальный путь своего сына, вновь арестованного в 1938 году и сосланного в лагерь заключения, Анна Ахматова начала готовить к изданию книгу стихов. За 12 лет, с 1923 по 1934 год, она написала очень мало, а в последние годы написаны новые стихи, но поэтическое кредо её почти не изменилось: эпиграф взят из стихотворения Б. Пастернака «Гамлет», а стихотворение «Надпись на книге», созданное в мае 1940 года, посвящено Михаилу Лозинскому, старому другу и редактору. И в одном из первых стихотворений сборника «Тростник» под названием «Муза» Анна Ахматова снова вспоминает то, что движет её пером: «Когда я ночью жду её прихода, / Жизнь, кажется, висит на волоске. / Что повести, что юность, что свобода / Пред милой гостьей с дудочкой в руке. / И вот вошла. Откинув покрывало, / Внимательно взглянула на меня. / Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала / Страницы Ада?» / Отвечает: «Я» (1924). Так Анна Ахматова соединяет год 1940 с 1924. Столько испытаний, мук, страданий выпало на её долю за эти шестнадцать лет, а она по-прежнему правдиво смотрит в глаза своей Музе, которая ещё в XIV веке диктовала блистательные строки великому итальянцу. Продиктует и ей. Так Муза продиктовала ей превосходные стихи «Памяти М.А. Булгакова» в 1940 году: «Вот это я тебе, взамен могильных роз, / Взамен кадильного куренья; / Ты так сурово жил и до конца донёс / Великолепное презренье… /», продиктовала стихотворения «Поэт», посвящённое Борису Пастернаку, «Воронеж», посвящённое Осипу Мандельштаму. То, что согревало её душу, вылилось в поэтические строчки. Но в 1940 году, перед Великой Отечественной войной, Анна Ахматова закончила трагическую поэму «Реквием», начатую в 1935 году, когда впервые арестовали её сына, двадцатитрёхлетнего Льва Николаевича Гумилёва (1912—1992). Произведение хранилось в авторской памяти и в памяти друзей, которым она читала поэму. И лишь после ХХ съезда КПСС, когда началось что-то вроде «оттепели», Анна Ахматова в 1961 году напечатала эпиграф к поэме и «Вместо предисловия». И эпиграф, и «Вместо предисловия» настолько глубоко раскрывают смысл поэмы, что стоит процитировать их полностью:
Нет, и не под чужим небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
«Вместо предисловия»: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шёпотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом».
1 апреля 1957 г.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Перед этим горем гнутся горы,
Не течёт великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы» И смертельная тоска…
(Ахматова А.
Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. С. 188)
И далее ещё трагичнее: «Звёзды смерти стояли над нами, / И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми сапогами / И под машинами чёрных марусь».
Отдельные отрывки создавались начиная с 1935 года, но трагический приговор един: «Звёзды смерти стояли над нами, / И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми сапогами / И под шинами чёрных марусь. /…Семнадцать месяцев кричу, / Зову тебя домой, / Кидалась в ноги палачу, / Ты сын и ужас мой. / Всё перепуталось навек, / И мне не разобрать / Теперь, кто зверь, кто человек, / И долго ль казни ждать…» (Там же. С. 190—191).